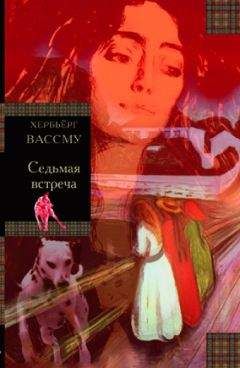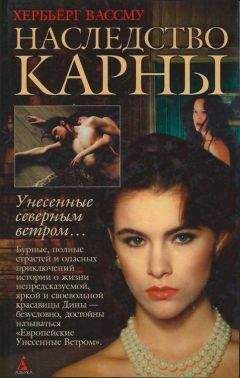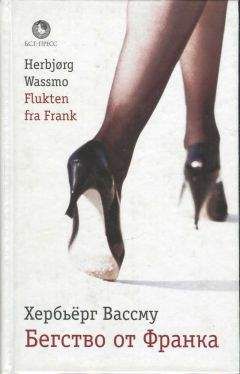Руфь села на стул и забыла, что надо бы что-то сказать. Через мгновение он исчез. Она вспомнила, что хотела занять у него денег, чтобы поехать на Рождество к Туру. Надо было заказать билет, пока не поздно.
Наверное, именно это и привело ее в ярость. Она позвонила в галерею и попросила секретаря передать АГ, что она не желает видеть никого из галереи, пока картины не будут закончены. И что она сообщит, когда они смогут их забрать.
На другой день АГ влетел в мастерскую, когда там были двое других художников, Йозеф и Бирте. Он был разгневан и просил избавить его от сообщений через секретаря о ее желаниях. Пока АГ произносил свою громовую тираду в классическом духе Эмиссара, испуганные Йозеф и Бирте тихонько ретировались.
Окна были открыты, и, когда он остановился, чтобы перевести дух, Руфь услыхала воронье карканье. Как будто кто-то с треском разрывал холст на куски. Она отложила кисти, палитру и встала перед ним.
— Катись к черту со своими дурацкими претензиями! — сердито сказала она по-норвежски, ушла к себе и заперла дверь.
Через час у ее двери стояла двадцать одна красная роза с его визитной карточкой. Руфь поставила розы в мастерской в ведро, в котором мыли пол.
Потом она позвонила своим хозяевам на Инкогнитогата и попросила их сдать ей комнату на рождественские каникулы. К счастью, ее еще никто не снял, и ей не отказали.
Тур начал ходить в школу и один раз уже прилетал самостоятельно в Осло. Но на этот раз он, бледный и заплаканный, подошел к Руфи в сопровождении стюардессы, несшей его сумку. Он не разговаривал с Руфью, пока они не остались одни, и отказался обнять ее.
— Тебе было плохо во время полета? — спросила она, присев перед ним на корточки и вытирая ему нос.
— У меня болят уши, — сказал он и всхлипнул.
Она заглянула ему в уши, но все было как будто в порядке. Должно быть, у него болят барабанные перепонки. Она хотела прижать его к себе, но он испуганно поглядел по сторонам и отпрянул от нее. Она сдалась.
Занеся вещи домой, Руфь повела его в больницу «Скорой помощи». Там она обнаружила, что у Тура мокрые ноги. Она попыталась снять с него башмаки, но он воспротивился и этому. Никто из сидящих в очереди к врачу не снимал с себя обуви.
Врач осмотрел Тура и нашел у него трещины на барабанных перепонках. Помочь он ничем не мог, оставалось надеяться, что трещины зарастут сами собой. Он дал им капли, которые следовало накапать Туру в нос перед обратной дорогой, и пожелал счастливого Рождества. И они отправились домой.
Лишь после того как Руфь затопила печь и сварила какао, Тур разговорился.
— Папа с Мерете срубили большую-большую елку. Я ходил с ними. На вершину они наденут электрическую звезду, — сказал он и оглядел комнату Руфи.
— Завтра мы пойдем и купим елку, — быстро сказала она.
— Большую?
— Какую захочешь.
— А у тебя есть украшения?
— Мы нарисуем ангела. Или вырежем его из глянцевой бумаги.
Он испуганно посмотрел на нее.
— Не говори глупости, мама.
— Я серьезно. А если хочешь, можем пойти и купить каких-нибудь игрушек. Заодно посмотрим елки на Карл Юхан и на Бугстадвейен.
— Они нарядные?
— Очень!
— Какие?
— Сам увидишь. Это будет сюрприз.
Пока Руфь читала ему вслух «Рождество в Бюллербю»[37], она пыталась увидеть свою комнату его глазами. Ее удивило, что никто из них не плакал.
Хозяева уехали на Рождество и разрешили ей пользоваться своей кухней. Так что она могла приготовить что-нибудь горячее.
На другой день они потратили целое состояние на елочные игрушки и большую елку. Когда они притащили ее домой, Руфь сообразила, что у них нет подставки для елки, и они снова отправились в магазин. Тур бежал впереди и решил переходить улицу на красный свет. Железная подставка оказалась такой тяжелой, что им пришлось привезти ее домой на такси.
После того как они побывали в театре и видели «Вслед за Рождественской звездой», Тур проявил нечто, что было похоже на привязанность, но уверенности в этом у Руфи не было. Во всяком случае, он держал ее за руку, когда они шли по темной улице.
Через десять дней им предстояло расстаться, и все, что было завоевано за это время, рухнуло, когда Тур прошел регистрацию в аэропорту и ему пора было идти на посадку. Она сама все испортила, начав плакать.
— Мама, перестань плакать, здесь столько людей, ты что, не понимаешь?
— Я не могу, — всхлипнула она ему в шею.
— Не езди в Берлин, поедем со мной домой! — Он тоже заплакал и не хотел отпускать ее.
Служащая, которая должна была проводить его до самолета, грустно покачала головой и сказала, что им пора. Кончилось тем, что она силой потащила зареванного, упирающегося Тура к выходу. Пассажиры останавливались и как-то странно смотрели на них, словно в первый раз видели плачущих людей.
— Мама, приезжай домой и выходи замуж за папу! Мама, противная, приезжай домой! — кричал Тур, пока их не разделила дверь.
В автобусе по дороге в город Руфь поняла, что никогда не станет ничем, кроме неудавшегося второсортного художника. Премия газеты и мастерская в Берлине еще не означали, что она что-то собой представляет. В действительности она обыкновенная эгоистка, изменившая своему ребенку ради так называемой карьеры.
Что, собственно, мешало ей писать картины в маленьком поселке в рукаве фьорда, где жили Тур и Уве? Многие художники жили и писали в рукавах фьордов.
Мунк, например, жил в Осгорстранде и писал свою семью. Свое горе. Правда, позже он переехал в Христианию и получил стипендию для поездки за границу. Он был неженат, и у него не было детей, вспомнила она. Женщины, которые хотят играть в художниц, не должны иметь детей.
Руфь свернула тюфяк Тура и убрала его в чулан. Но серую бумагу, которой она застлала весь пол, чтобы они каждый день могли рисовать свои рождественские рисунки, она не тронула.
Потом она поставила на мольберт свой самый большой альбом для набросков и схватила уголь. Она не успела опомниться, как на белом листе возник смелый, упрямый профиль Тура. Колени его были подняты к подбородку. Руки держали старый тюфяк, словно это был тяжелый ковер-самолет, который никогда не умел летать.
И тут же она узнала в этих линиях собственное детство. Свою тоску по чему-то, чего она еще не знала.
По телефону хозяев Руфь позвонила Уве, чтобы убедиться, что Тур благополучно вернулся домой.
— Конечно вернулся. Уши? Нет, с ушами у него все в порядке, — сказал Уве.
Она объяснила ему про барабанные перепонки, но он успокоил ее, что такое часто бывает у детей.
— Тур все время хвастается тем, что видел в Осло, и сетует, что у нас с Мерете слишком маленькая елка по сравнению с теми, какие стоят в Осло. Например, перед Университетом стоит елка до неба, — засмеялся Уве.
— Спасибо, что ты мне это сказал. — Голос у нее сорвался.
— Руфь, ты меня слышишь? — спросил он, помолчав.
— Да.
— Как у тебя дела? Там, в Берлине?
— Неплохо. Но похвастаться нечем, — призналась она.
— Тебе нужна помощь? Я хочу сказать… Позвони мне, если что.
— Спасибо тебе. Береги Тура, это лучшее, что ты можешь сделать, раз уж меня нет рядом.
— Это само собой, не думай об этом. И помни… тебя тут не хватает не только Туру.
— Спасибо! Передай всем им от меня привет.
— Это мне тебя не хватает!
Она прислонилась к ледяной стене в холле. Хрустальное бра сверкнуло ей в глаза со стены над телефоном.
— Не говори так, — прошептала она.
— Я серьезно.
— Мерете это не понравилось бы…
— Мерете — это ошибка. Мы не подходим друг другу. Хорошо, что мы не поженились.
— Конечно, вы подходите друг другу. Пожалуйста, перестань.
Он сдался. И она поблагодарила его, не очень понимая, за что именно благодарит. Конечно, за Тура.
Днем она достала пастель. Модели ей не требовалось. Он и так все время стоял у нее перед глазами.
Ночью ей приснилось, что она несет Тура через Остров. Они шли по дну между камнями, через гущу водорослей. Из его кровоточащего уха выплывали маленькие рыбки. Их было очень много. Они косяком плыли следом. Руфь оглянулась, их были миллионы.
В 1980 году Горм записал в желтом блокноте: «Ничто не может вызвать такого морозного покалывания в душе, как полуночное майское солнце».
Это было накануне, а сейчас он сидел в своей квартире у окна, держа блокнот на коленях. Именно здесь он делал свои записи.
Илсе отказалась встречаться с ним по личным делам в здании фирмы. Поэтому квартира здесь стала для Горма пристанищем, где его никто не беспокоил. Он даже немного обставил ее. Несколько удобных кресел и журнальный столик. Письменный стол. Кровать, в которой он спал очень редко и всегда один.