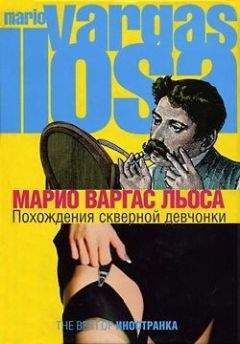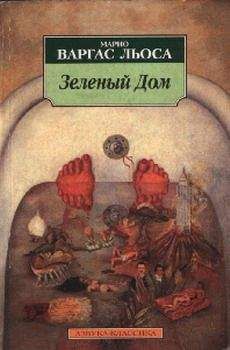– А ведь ты патологически любил порядок и чистоту, Рикардито, – проговорила она после паузы. – Никак не могу поверить, что ты живешь в таком свинарнике.
Я сел рядом с ней и почувствовал неизмеримую печаль. Скверная девчонка была права. Моя маленькая и скромная квартира у Военной школы всегда сверкала безупречной чистотой и порядком. Что ж, Рикардито, нынешний бедлам – лишнее свидетельство необратимости твоей деградации.
– Ты должен подписать кое-какие бумаги, – произнесла скверная девчонка, кивнув на папку, которую положила прямо на пол.
– Единственная бумага, которую я готов подписать тут же, не раздумывая, это свидетельство о разводе, если, конечно, наш брак еще действителен, – ответил я. – Слишком хорошо тебя знаю… Ты способна на все: например, заставить меня подписать фальшивку и отправить за решетку. Я ведь знаю тебя сорок лет, чилиечка.
– Выходит, плохо знаешь, – ответила она самым невозмутимым тоном. – Кому другому я, может, какую-нибудь гадость и устроила бы, но только не тебе.
– Мне ты уже успела устроить худшее из того, что только может ждать мужчина от женщины. Заставила поверить, будто любишь меня, а тем временем спокойно охотилась за другими джентльменами – у кого денег побольше, и потом без малейших угрызений совести посылала меня ко всем чертям. Вспомни-ка, сколько раз это повторялось! Не раз и не два… После чего я оставался один – зализывать раны, не в силах что-либо делать. И теперь у тебя хватило наглости явиться сюда и как ни в чем не бывало говорить, что ты хочешь, чтобы мы снова начали жить вместе. Знаешь, тебя давно пора показывать в цирке. Успех будет потрясающий.
– Я раскаялась. И больше тебе свинью не подложу.
– Да, не подложишь, потому что у тебя не будет такой возможности – я ни за что не соглашусь жить с тобой. Никто не любил тебя так, как я, никто не сделал для тебя того, что сделал я… Ладно, рассыпаясь тут перед тобой, я чувствую себя полным идиотом… Что тебе от меня надо?
– Две вещи, – твердо сказала она. – Чтобы ты бросил свою грязную хиппи и перебрался жить ко мне. И чтобы подписал вот эти бумаги. Тут нет никакого подвоха. Я перевожу на тебя все свое имущество. Домик на юге Франции, недалеко от Сета, и несколько акций «Электрисите де Франс». Все уже оформлено на твое имя. Но ты должен подписать документы, только тогда уступка прав получит законную силу. На, прочитай сам, посоветуйся с адвокатом. Это нужно не мне, а тебе. Я хочу все, что имею, оставить тебе.
– Превеликое спасибо, но я не могу принять столь щедрый подарок. Потому что вполне допускаю, что и этот домик, и акции украдены у каких-нибудь бандитов, и не собираюсь исполнять роль подставного лица – ни ради тебя, ни ради очередного гангстера, на которого ты взялась работать. Надеюсь, не объявился знаменитый Фукуда?
И тут, прежде чем я успел отпрянуть, она обвила мою шею руками и крепко, из последних сил, прижалась ко мне.
– Перестань ругаться, перестань говорить гадости, – простонала она, целуя меня в шею. – Лучше скажи, что рад меня видеть. Скажи, что скучал и любишь меня, а не эту хиппи, с которой живешь в настоящем хлеву.
Я не решился оторвать ее от себя, с ужасом почувствовав в руках сущий скелет: талия, плечи, руки – в них словно совсем не осталось плоти, только кожа да кости. Хрупкое, невесомое создание, прижимаясь ко мне, распространяло вокруг нежный аромат, так что в голове у меня мелькнул образ цветущего сада. Я больше не мог притворяться.
– Почему ты так похудела? – спросил я скверную девчонку на ухо.
– Сначала скажи, что любишь меня. А эту свою хиппи совсем не любишь и стал с ней жить с горя – потому что я тебя бросила. Скажи! С тех пор как я про нее узнала, меня точит и убивает ревность.
Теперь я чувствовал, как ее маленькое сердечко бьется рядом с моим. Я нашел ее губы и медленно поцеловал. Ее язычок бился о мой язык, я глотал ее слюну. Я сунул руку ей под блузку и погладил спину – рука нащупала ребра, позвоночник, словно от моих пальцев их отделял лишь тончайший слой кожи. Грудей у нее не было совсем – на ровном месте из кожи торчали крошечные соски.
– Почему ты так похудела? – снова спросил я. – Болела? Что с тобой было?
– Только там, внизу, меня не трогай, на таких делах надо поставить крест. Меня прооперировали – и буквально выпотрошили. Я не хочу, чтобы ты видел меня голой. Все тело – сплошные шрамы. Не хочу, чтобы тебе стало противно.
Она плакала с горьким отчаянием, и мне никак не удавалось ее успокоить. Тогда я посадил ее к себе на колени и долго гладил, как часто делал в Париже во время ее приступов страха. От ягодиц тоже ничего не осталось, а ноги до самых бедер стали такими же тощими, как и руки. Больше всего она напоминала те живые трупы, какие запечатлены на фотографиях, снятых в концлагерях. Я ласкал ее, целовал, говорил, что люблю, что стану за ней ухаживать, но в то же время мною овладевал неописуемый ужас, потому что я вдруг отчетливо осознал: она тяжело больна, больна именно сейчас, а не болела когда-то раньше, и очень скоро умрет. Разве может человек сперва вот так похудеть, а потом взять да и поправиться?
– Ты еще не сказал, что любишь меня больше, чем свою хиппи, пай-мальчик.
– Ну конечно я люблю тебя больше, чем ее, больше всех на свете. И хотя ты принесла мне много горя, ты же и сделала немыслимо счастливым. Иди ко мне, я хочу, чтобы ты лежала рядом, и я буду любить тебя.
Я отнес ее на кровать, уложил и раздел. Она, закрыв глаза, позволила снять с себя одежду, и только чуть поворачивалась, чтобы как можно меньше показывать свое тело. Но я поцелуями и ласками заставил ее вытянуться и расслабиться. Да, ее и на самом деле не прооперировали, а буквально выпотрошили. На то место, где были груди, кое-как пришили соски – прямо в центр круглых багровых шрамов. Но самый страшный шрам поднимался от самого низа живота до пупка – неровный покрытый коричнево-розовой коркой, он выглядел совсем свежим. Все это так подействовало на меня, что я невольно накрыл ее простыней. До меня вдруг дошло, что мы и вправду никогда больше не будем заниматься любовью.
– Я ведь не хотела, чтобы ты видел меня такой, не хотела, чтобы испытал отвращение к своей жене, – проговорила она. – Но…
– Но я тебя люблю и буду ухаживать за тобой, пока ты не поправишься. Почему ты не позвонила мне, чтобы все это время я был рядом?
– Я нигде не могла тебя найти. Сколько месяцев искала… И это приводило меня в отчаяние – умереть, не увидев тебя хотя бы еще раз.
Последнюю операцию ей сделали всего три недели назад в больнице Монпелье. И врачи были очень откровенны. Опухоль обнаружена слишком поздно, и, хотя ее удалили, сделанный после операции анализ показал наличие метастаз – так что, увы, больше ничего сделать нельзя. Химиотерапия лишь чуть отсрочит неизбежное. Кроме того, больная крайне истощена и ослаблена, поэтому вряд ли такие процедуры перенесет. Груди ей удалили год назад в Марселе. Из-за того, что организм был ослаблен, не удалось сделать вторую операцию, чтобы восстановить бюст. Они с мужем Мартины после своего бегства поселились на средиземноморском побережье, во Фронтиньяне, недалеко от Сета, где у него имелся собственный дом. Когда у нее обнаружили рак, он вел себя очень достойно. Проявил истинное великодушие, осыпал знаками внимания и не подавал виду, что испытал разочарование, когда ей удалили обе груди. Наоборот, это она сама стала исподволь внушать ему, что, раз уж ее судьба предрешена, для него лучше будет помириться с Мартиной и прекратить судебную тяжбу с детьми, ибо пользу от распри извлекут только адвокаты. В итоге джентльмен вернулся в семью, благородно простившись со скверной девчонкой: купил ей в Сете домик, который теперь она решила переписать на меня, и перевел на ее имя акции «Электрисите де Франс», чтобы они помогли ей безбедно прожить остаток жизни. Меня она начала искать примерно год назад и нашла только с помощью детективного агентства, «которое обобрало ее до нитки». Мой адрес ей сообщили, когда она проходила обследование в больнице Монпелье. Беда в том, что боли во влагалище мучили ее еще со времен Фукуды, поэтому она вовремя не спохватилась, не обратила на них должного внимания.
Все это она рассказала, пока мы беседовали – очень долго, весь остаток дня и добрую часть вечера. Мы лежали в постели, она крепко прижималась ко мне. Правда, уже одетая. Иногда замолкала, чтобы я мог поцеловать ее и сказать, что люблю. Историю последних лет – правдивую? приукрашенную? целиком выдуманную? – она рассказывала без надрыва, вроде бы искренне и уж точно с чувством облегчения, словно самим этим фактом была очень довольна и, рассказав мне все, могла умереть спокойно.
Она прожила еще тридцать семь дней и до самого конца вела себя так, как пообещала в кафе «Барбиери», – исполняя роль идеальной жены. По крайней мере тогда, когда ужасные боли не вынуждали ее лежать в постели и принимать морфий. Я переехал жить к ней, в гостиницу в Лос-Херонимосе, где она недавно поселилась. Я взял с собой один-единственный чемодан, сунув в него кое-какую одежду и несколько книг. Я оставил Марчелле страшно лицемерное и полное достоинства письмо, сообщая, что решил уехать и вернуть ей свободу, потому что не хочу мешать счастью, которое, как хорошо понимаю, сам дать ей не в состоянии, учитывая разделяющую нас разницу в возрасте и разницу в интересах; ей нужен ровесник, человек ее круга – вроде, скажем, Виктора Альмеды. А через три дня мы со скверной девчонкой сели на поезд и поехали в Сет, неподалеку от которого, на высоком холме, откуда было видно море, воспетое Валери в «Морском кладбище», стоял ее домик. Он был совсем небольшим, строгим, симпатичным, аккуратным, с маленьким садом. Целых две недели она чувствовала себя прекрасно и была так довольна и весела, что мне, против всякой очевидности, подумалось: а вдруг все еще можно поправить? Однажды после обеда, когда мы сидели с ней в саду и уже подкрадывались сумерки, она сказала, что, если в один прекрасный день я вздумаю написать историю нашей любви, я не должен изображать ее, скверную девчонку, совсем уж скверной, иначе ее призрак будет являться мне каждую ночь и дергать за ноги.