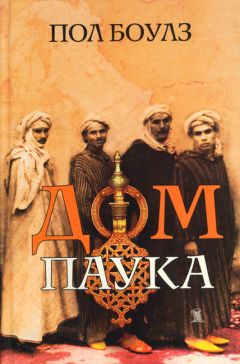— Ладно, — требовательно спросил он под конец, — скажите мне одну единственную вещь. Зачем вы приехали?
Ответить на этот вопрос Мохаммеду не составило особого труда.
— Мой друг пригласил меня, — указал он на Амара.
— Можете возвращаться, если хотите. Меня это не касается.
— Но как же деньги на автобус? — Мохаммед с упреком посмотрел на Амара.
— Это не мое дело. И я не собираюсь покупать вам билеты. Я пригласил вас обоих и привез сюда. Пока я не звал вас обратно в Фес. Когда решу вернуться, я куплю вам билеты. Но не сегодня. Вам повезло, что вы здесь и не попали в беду. Будь у каждого из вас голова на плечах — сами бы все поняли.
Произнося эту речь, Стенхэм следил за Амаром, и выражение лица мальчика еще больше укрепляло его в мысли, что тот с ним согласен и одному Мохаммеду наскучил праздник и он хочет вернуться в город. Сомнений не было: зачинщиком был Мохаммед. Но и речи не могло быть о том, чтобы отправить обратно его одного: он не поедет без Амара, да и Амар не отпустит его. Подобное поведение было бы верхом позора. Амар пригласил Мохаммеда в Сиди Бу-Хта, Мохаммед был гостем Амара и Амар отвечал за его благополучие и за то, что он будет доволен, пока находится тут. Теперь, поскольку Мохаммед решил вернуться в Фес, Амар должен проводить его до Феса.
— Но если Амар хочет купить тебе билет, пусть покупает.
На Амара, услышавшего это, стало жалко смотреть. Ну вот, наконец, я и стану злым назареем, подумал Стенхэм. Им всегда был нужен такой, я и возьму на себя эту роль. Он повернулся и пошел дальше.
Войдя в кафе, он увидел, что Ли сидит и курит и что вид у нее еще более мрачный и замкнутый, чем он ожидал.
— Доброе утро, — жизнерадостно произнес он.
— Доброе утро, — быстро, как автомат, проговорила она, не глядя на него.
Ярость мгновенно захлестнула Стенхэма, и он уже собирался было с такой же милой задушевностью спросить: «Ну, как поживает наша мученица?» — но, разумеется, ничего не сказал. Появились и мальчики. Сняв сандалии, они сели, все еще вполголоса переговариваясь. Наконец Амар вспомнил о Ли и, взглянув на нее, сказал: «Bon jour, madame». Мохаммед последовал его примеру. Приветствие мальчиков Ли восприняла несколько более благосклонно.
Большинство мужчин в кафе были те же, что накануне, но двое или трое выделялись своим явно городским видом. Не зная, чем заняться, Стенхэм наблюдал за ними, сравнивая их городские повадки с благородным поведением крестьян. Упадок, сплошной упадок, повторял он про себя. Утратив все, они ничего не приобрели взамен. Французы просто привнесли последние штрихи в процесс, начавшийся по меньшей мере пятьсот лет назад. Интуитивные нравственные устремления марокканцев совпадали с идеалами, воплощенными в догмах их религии, но люди уже больше не могли следовать ни этим глубинными импульсами, ни религиозным идеалам, поскольку между ними встало государство с гнетом своих законов. Уже нельзя было позволить себе быть честным, великодушным и милосердным, ибо никто больше никому не верил; зачастую они больше доверяли христианину, которого встретили впервые в жизни, чем мусульманину, с которым были знакомы много лет.
Взять хотя бы того, с лисьей мордочкой, в потрепанном европейском костюме, подумал Стенхэм, с толстыми губами, густым пушком, пробивающемся на щеках, и фурункулом на шее, о чем-то секретничающего с огромным, как гора, мужчиной, у бедра которого болтался в ножнах кинжал с серебряной рукоятью, — что интересного мог сообщить этот жалкий юнец, поставщик базара, человеку, глядевшему на него, точно благосклонный властелин? Что-то жизненно важное, судя по реакциям то и дело широко раскрывавшего глаза мужчины, по испугу, пробегавшему по его лицу. Его молодой собеседник сидел, сощурившись, скреб небритый подбородок, и, привалившись почти вплотную к великану, что-то, не умолкая, ему нашептывал.
Охваченный внезапным подозрением, Стенхэм встал и вышел из шатра. Наугад выбрав другое кафе ниже по склону холма, он вошел и заказал стакан чая, не обращая внимания на подозрительные взгляды. Взгляды эти были давно ему знакомы, и он успел к ним привыкнуть. Кафе мало чем отличалось от предыдущего, разве что было чуть больше и со второй комнатой, носившей, скорее, чисто символический характер: она была отгорожена от главной циновками, прикрепленными к воткнутым в землю палкам. В более просторной части, где он устроился, практически ничего не происходило: мужчины покуривали трубки с кифом и прихлебывали чай. Скоро Стенхэм встал и перешел на другую половину и сел в углу, ожидая, пока ему принесут чай. Здесь он тоже подметил кое-какие неожиданные и странные детали, даже более поразительные, чем в другом кафе. Некий молодой горожанин, на сей раз в очках, что-то говорил, обращаясь уже не к одному, а сразу к шести важным сельчанам. Стенхэму было отнюдь не легко сохранять маску беспечности, когда, после его появления в маленькой комнате воцарилась тишина и откровенно враждебные взгляды горящих глаз устремились на него. Он решил изображать из себя ничего не подозревавшего туриста в поисках местного колорита; вряд ли присутствующие могли до конца понять придуманную им роль, но он чувствовал, что нечто большее ему сейчас не под силу. Глупо улыбаясь, он произнес:
— Bongjour. Avez-vous kif? Kif foumer bong[155].
Надеюсь, я не переигрываю, подумал он. Двое из присутствующих заулыбались, остальные выглядели смущенно. Горожанин ухмыльнулся, ответил презрительно:
— Non, monsieur, on n'a pas de kif. — Затем, обернувшись к одному из горцев, сказал: — Как эта иностранная свинья пробралась в Сиди Бу-Хта? Даже здесь, даже в праздник мы должны терпеть рядом этих сучьих детей.
Один из мужчин, философски улыбнувшись, заметил, что в прошлом году трое французов приходили на муссем Мулая Идрисса и делали фотографии.
— Но этот даже не француз, — с отвращением произнес молодой человек. — Какое-то другое отребье — англичанин или швейцарец. — Он снова обжег Стенхэма ненавидящим взглядом, после чего отвернулся и, словно возвещая истины в последней инстанции, возобновил свой монолог, но теперь уже гораздо тише, так что до Стенхэма долетали только отдельные слова и отрывки фраз. Вскоре молодой человек, забывшись, снова заговорил громче, и Стенхэм многое разобрал. Как только принесли чай, он поскорее выпил, не рискуя привлекать к себе внимание, и, неловко попрощавшись с сидящими в комнате, вышел наружу. Невозможно поверить, что несколько молодых людей из Феса просто так забрели сюда и рассказывают своим друзьям последние новости, но Стенхэму хотелось знать точно, а не впустую строить догадки. Он решил обойти еще несколько кафе, чтобы удостовериться, в каком масштабе ведется кампания. На случай, если кто-нибудь поинтересуется, что он здесь делает, он скажет, что ищет Амара. Так что он заглядывал в одно кафе за другим, словно кого-то разыскивая, и выходил, успев изучить лица присутствующих.
Только в одном месте кауаджи спросил у него, что ему нужно. Голос мужчины не понравился Стенхэму, и он поскорее вышел, чтобы его не успели разглядеть. В одном кафе он наткнулся на подозрительного типа, но не смог точно определить, тот ли это, кого он ищет. Зато в остальных четырех случаях сомнений быть не могло. Истиклал направил сюда целый комитет, чтобы провести беседы с шейхами, саидами и другими важными фигурами и отговорить их от жертвоприношений. Более того, они распространяли слух, звучащий вполне убедительно, что французы предоставили десяткам тысяч местных солдат право систематически насиловать женщин и девушек в фесской медине. Дома и лавки, по их словам, разграблены, множество мужчин и юношей убиты, по всему городу начались пожары. Такую информацию он услышал во втором кафе, пока ждал чая, и выражение лиц слушателей повсюду было одинаковым.
Стенхэм стоял в жарких лучах утреннего солнца, прислушиваясь к хору блеющих овец, и, поскольку слишком устал и проголодался, завел с собой внутренний диалог. Ну что, теперь доволен или обойдешь еще десяток кафе? Нет нужды. Теперь ты много знаешь, но что собираешься делать? Ничего. Мне просто хотелось узнать. Думал, что найдешь чистое, ничем не запятнанное место? Доволен?
Но он не хотел возвращаться в кафе, снова увидеть мальчиков и чувствовать, что они его осуждают. Как бы абсурдно это ни звучало, он чувствовал вину при мысли о несходстве их детских надежд и своих собственных, которые трудно было даже сформулировать, настолько негативными они были. Ему не хотелось, чтобы французы удерживали Марокко, но не хотел он и чтобы к власти пришли националисты. Он не мог выбрать, к какой из сторон примкнуть, поскольку часть его сознания, отвечавшая за выбор, уже давно была парализована, остановившись на том, что исключало саму возможность выбора. Быть может, это к лучшему, подумал он: можно держаться подальше от обоих зол, а стало быть, не забывать, что это зло.