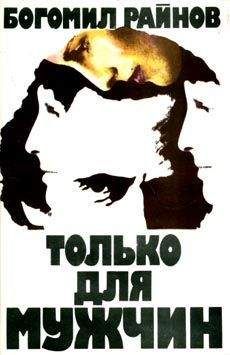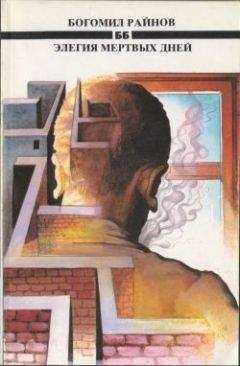И хотя всего минуту назад я испытывал неловкость, сейчас мне не терпится просунуть голову в дверь и шутливо заметить: «Песни поем, а? Да еще какие – военно-сентиментальные…»
Какой-то непрестанный нелепый зуд – поставить человека в неловкое положение, просто чтобы посмотреть, что будет. Как мне твердил одни приятель: чтобы герой раскрылся, надо его ошарашить. Раньше подобные выходки меня забавляли, но потом я их прекратил. Вызовешь, допустим, шок – и разойдется человек по швам. Но не сам он, а его пальто. А под пальто – пиджак, а под пиджаком бог знает сколько еще всяких одежек. Некоторые люди похожи на лук снимаешь одну шкурку за другой, а когда наконец снимешь последнюю, оказывается, что под ней уже и человека-то нет. Ничего. Поневоле задумаешься, стоило ли возиться, экспериментировать.
И все же интересно, что его заставило откопать в залежах своей памяти именно эту песню. Смерть, которая ждет, или любимая, которая тоже ждет? Скорее всего, первое, хотя после той давней истории с моим отцом трудно утверждать что-либо определенное. К тому же бывает, что люди отличаются от лука: когда пальто разойдется по швам (а это вполне может случиться, особенно если оно старое, поношенное, затасканное, как больничный халат), то под ним может оказаться нечто невероятное – живое человеческое сердце.
Песня в комнате оборвалась. Я встаю и вхожу к больному. У него – светлее, чем в гостиной, но ненамного. Окна завешены плотными выгоревшими шторами кирпично-бурого цвета. Луч зимнего дня, проникнув сквозь щелку в шторах, падает на кровать больного. Несси лежит с закрытыми глазами, однако ощущает мое присутствие, хотя воспринимает его по-своему.
– Лиза, это ты?
– Нет, это Антон.
Вероятно, он предпочел бы, чтобы это была Лиза, но не говорит этого. Я подхожу ближе.
– Может, вам что-нибудь нужно?
– Пока ничего, спасибо.
Я присаживаюсь на ближайший стул. Температура, должно быть, спала, хотя песня могла означать обратное. Больной расслабился на высокой подушке, укрытый до самого подбородка двумя солдатскими одеялами, поверх которых простирается шинель.
– Сейчас вам лучше? – спрашиваю я, лишь бы не молчать.
– Как-нибудь очухаюсь, – уклончиво отвечает Несси. – Не такое пришлось пережить, а уж грипп…
– У вас жизнь была не из легких.
– Жизнь, молодой человек, не может быть легкой, если ты решил прожить ее как настоящий мужчина. Подполье, партизанская борьба, фронт, а потом то, чего ваш Димов не может мне простить…
– Я думаю, он давно простил. Хотя вы всеми способами противитесь этому.
Несторов слегка приоткрывает глаза, потом снова устало их закрывает.
– Я его злю одним своим присутствием, – уточняет он.
– И всякими выдумками… Например, что вы вели следствие по его делу. Вы ведь это нарочно выдумали.
Старик молчит, сомкнув веки, будто прикидывается спящим. Потом, немного повернув голову, глядит на меня.
– Я это не придумал, – говорит он и пристально смотрит в потолок, высокий, как во всех старых домах, теряющийся в полумраке.
– Как же так, ведь вас в то время вообще не было в Болгарии.
– Может, и не было, – равнодушно произносит Несси. – Не помню.
– Значит, вы его обманули!
Он опять переводит глаза на меня, словно желая убедиться, в самом ли деле я настолько туп, как ему кажется, затем приподнимается на подушке, садится.
– Я его не обманывал, вы слышите? – говорит он. – Следствие я, конечно, не вел и даже не был в курсе дела, но я его не обманывал! – И, заключив по моему виду, что тупость моя непритворна, добавляет: – Мне надо было втолковать ему, что я готов нести ответственность.
– Неужто вы склонны оправдывать ошибки той поры?
– Ничего я не собираюсь оправдывать. Даже собственные ошибки. Но я их допускал не из любви к безобразиям. Время было такое.
– Ошибка с Димовым произошла не по вашей вине. Как вы можете брать на себя ответственность за то, чего не совершали?
– А вот так: я готов за нее отвечать. Раз другие умыли руки, должен же кто-то взять на себя ответственность? И если кто спросит у меня, готов ли я отвечать за все, что имело место в тот период, я отвечу: да, готов – за все! Раз я жив, значит, я в ответе!
Он обессиленно плюхается на подушку и опять закрывает глаза.
В дверь дважды звонят. Будем надеяться, что это не новый папаша Лизы. Я оставляю больного и иду открывать.
– Мать честная! – восклицаю я. – Ты воскрес? Как тебе удалось меня найти?
В дверях стоит Петко во весь свой внушительный рост, в темных очках и в летнем пальто, которое служит ему во все времена года.
– Я и не думал тебя искать, – объясняет мой покойный друг. – Я ищу Лизавету.
– А! – снова восклицаю я. – Откуда ты ее знаешь?
– Длинная история! – Петко небрежно машет рукой. – Ты меня пустишь в дом пли будешь держать здесь?
Мы поднимаемся в мои покои, я достаю из тумбочки кофейник и начинаю готовить кофе, а Петко, сбросив пальто, садится и, закурив, всматривается сквозь полупрозрачные гардины в очертания моего приятеля – орехового дерева.
– Так с кем лее она тут живет, Лиза? С тобой? – спрашивает он.
– Со мной. Но, чтобы не ошибиться, не спеши пока делать выводы, – предупреждаю я, отыскивая сахар.
– Ладно, – кивает Петко. – Хотя мать уверяла меня, что ты ее новый приятель.
– Мать не в курсе. У Лизы вообще нет приятеля. Но у нее есть жених. Никак не найду сахар…
– Обойдемся, – говорит мой гость. – Я давно разыскиваю Лизавету. – Еще в тот раз, когда мы с тобой повстречались в поезде, я приезжал, надеясь ее найти, но мать не знала, куда она девалась.
Поставив кофейник на плитку, я включаю ее, после чего сажусь на свое обычное место – па кровать.
– А что у тебя общего с Лизой?
– По сути дела, ничего. Кроме того, что я – отец ее ребенка, если это имеет значение.
– Ты что, смеешься?
– Почему смеюсь? – Петко невозмутимо смотрит на меня сквозь темные очки.
– Разве может не иметь значения то, что ты отец ее ребенка?
– Для меня это, конечно, имеет значение, в противном случае я не стал бы ее разыскивать. Но Лизавете, похоже, все равно…
– Ты так считаешь? Уверен, что, встретив тебя здесь, она впадет в стрессовое состояние.
– Ерунда, – возражает Петко. – Ты ее плохо знаешь, хотя вы и живете вместе. Кстати, давно вы живете вместе?
И, не дожидаясь ответа, Петко принимается болтать – ему, должно быть, давно не представлялось такого удобного случая.
– Ты вот говоришь, «стрессовое состояние»… У меня уже в печенках сидят эти слова. Врачи, психологи, вся пишущая братия – все наперебой толкуют о стрессе… А ведь в основе этого понятия лежит страх. Но просто «страх» звучит слишком примитивно, а вот «стресс»… Ужасы настоящего и будущего не ограничиваются тем, что в мире гибнет столько народу. Они имеют и другое, психологическое выражение – уцелевших сковывает страх, страх перед войной…
– Это не ново, – отвечаю я, прислушиваясь к жужжанию кофейника.
– Да, внешний фактор. Но не следует упускать из виду потенциальную опасность психического взрыва. Материал для такого взрыва все накапливается и накапливается в пространстве. С одной стороны – озлобление, с другой – страх, а когда оба эти элемента насытят планету до критической точки, будет достаточно крохотной искорки, чтобы разразилась катастрофа.
– Раз уж ты заговорил о катастрофе, придумай-ка, как ее избежать.
– Это я придумал еще в гимназии. Мы с одним дружком решили было основать всемирную тайную организацию по уничтожению поджигателей войны. Начать надо с самых злостных, а остальных припугнуть, чтобы присмирели.
– Мудрый проект, – признаю я, продолжая вслушиваться в песню кофейника, теперь уже более громкую.
– Не стану утверждать, что мудрый, но он сильно меня занимал. Вся беда в том, что этих, злостных, не перечесть. Убрать одного – на его месте окажутся двое других, насилие будет порождать насилие. Вот в чем состоит драма терроризма. Психическая зараза требует психической дезинфекции.
– Так это ведь делается: правда, вместо того чтоб устранять злостных, мы их всего-навсего разоблачаем.
– А какой эффект? Тебе не кажется, что мы слишком терпеливо возимся с этой мерзостью – полемизируем, критикуем… Когда чересчур цацкаешься с мерзавцем, невольно попадаешь в его орбиту, он как бы приручает тебя, проникает в круговорот твоих мыслей и переживаний – следовательно, добивается своего…
– Тогда надо делать вид, будто мы его не замечаем, – предлагаю я, направляясь к плитке.
– Ему доставит удовольствие слишком пристальное наше внимание, – уточняет Петко. – Надо дать ему почувствовать, что он не властен повлиять на наши намерения и действия. Вот тогда он начнет беситься. А это уже признак самораспада, самоуничтожения.
– Опять обобщения, абстракции…
– А что, по-твоему, тут может быть конкретное? – спрашивает Петко.