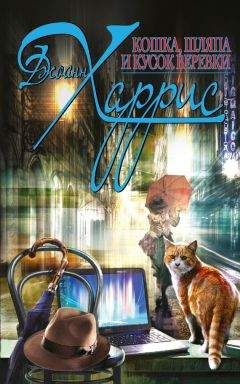Ознакомительная версия.
— Тьерри, прошу тебя, успокойся. — Я налила ему кофе. — Сядь и постарайся успокоиться.
Но когда дело касалось Ру, ни о каком спокойствии и речи быть не могло. Они, конечно, очень разные люди. Солидный Тьерри начисто лишен воображения; он всю свою жизнь прожил в Париже и прежде даже забавлял меня своим сугубо неодобрительным отношением к матерям-одиночкам, «альтернативному» образу жизни и иностранной кухне. Впрочем, теперь мне это забавным вовсе не казалось.
— Кто он тебе, между прочим? — Теперь Тьерри набросился на меня. — Как это вы умудрились стать такими близкими друзьями?
Я отвернулась.
— Мы с тобой уже говорили об этом.
Глаза Тьерри грозно сверкнули.
— Вы были любовниками? — прогремел он. — Да? Ты с ним спала, с этим ублюдком?
— Тьерри, прошу тебя…
— Скажи мне правду! Он тебя трахал? — завопил Тьерри.
У меня задрожали руки. Волна гнева, настолько сильного, что справиться с ним я уже не могла, охватила меня, и я тоже заорала:
— А что, если и так?
Такие простые слова. И такие опасные.
Тьерри молча уставился на меня, лицо его вдруг посерело, и я поняла, что брошенное мне обвинение — это со стороны Тьерри, несмотря на всю его ярость, просто громкие слова, очередной драматический жест, абсолютно предсказуемый и абсолютно бессмысленный. Ему необходимо было найти выход для своей ревности, для своей бесконечной потребности все контролировать, для своей невысказанной растерянности, которая поселилась в его душе, когда наши дела в магазине пошли в гору…
Потом он снова заговорил — дрожащим голосом:
— Ты должна сказать мне правду, Янна. Я слишком долго все это терпел. Я ведь, черт возьми, даже не знаю толком, кто ты такая! Я ведь просто когда-то поверил тебе на слово и продолжал верить — и тебе, и твоим детям, — и скажи: ты хоть раз слышала от меня жалобы? Эта испорченная девчонка и умственно отсталый ребе…
Он вдруг умолк на полуслове.
Я холодно смотрела на него. Значит, он все-таки решился преступить заповедную черту.
Розетт, сидя на полу, смотрела на нас, оторвавшись от своих спиралей. Над головой вдруг блеснул свет. Пластмассовые формочки для печенья задребезжали на полках, словно мимо промчался курьерский поезд.
— Янна, прости. Ох, прости!
Тьерри пытался вернуть, отвоевать навсегда утраченную территорию, точно наш сосед-моряк, который все еще надеется вновь уйти в море и поймать за хвост ускользнувшую удачу…
Но все уже рухнуло. Карточный домик, так старательно мною возведенный и оберегаемый, развалился из-за одного-единственного слова И теперь я уже отчетливо видела то, чего раньше не замечала. Впервые я по-настоящему разглядела Тьерри. Мне и раньше бросалась в глаза его мелочность. Его злорадное презрение к «мелкой сошке». Его снобизм. Его невежество. Но теперь я видела все: и цвета его ауры, и его уязвимые места, и его неуверенность, которую он пытается скрыть за широкой улыбкой, и таящееся в плечах напряжение, и странную скованность движений, стоит ему увидеть Розетт.
Какие гнусные слова!
Я, разумеется, видела, что при Розетт он всегда чувствует себя не в своей тарелке, с избытком компенсируя это добродушной веселостью. Только веселость и добродушие эти показные, как у человека, который ласкает опасную собаку.
А теперь мне стало ясно, что дело не только в Розетт. Ему вообще здесь неуютно, потому что все это мы создали без его помощи. И каждая порция шоколада, каждая удачная распродажа товара, каждый покупатель, с которым мы приветливо здороваемся, называя его по имени, даже тот стул, на котором он сидит, — все это напоминает ему, что мы трое независимы, что у нас есть и своя собственная жизнь, никак с ним не связанная, что у нас есть прошлое, в котором Тьерри Ле Трессе вообще никакой роли не играл…
Но ведь у Тьерри тоже есть прошлое. Оно и сделало его таким, каков он теперь. И все его страхи коренятся именно там. И не только страхи, но и надежды, и тайны…
Опустив глаза, я изучала свою старую знакомую — гранитную плиту, на которой разделываю шоколадную массу. Она давно уже почернела от времени; она и досталась-то мне не особенно новой, покрытой множеством боевых шрамов, полученных в бесконечных кулинарных сражениях. В граните все еще поблескивают порой вкрапления кварца, и я люблю на них смотреть, пока остывает шоколадная глазурь, которую вскоре вновь нужно будет нагреть и охладить.
«Не желаю я знать никаких твоих тайн!» — безмолвно говорю я плите.
Но она-то знает, что это не так. Поблескивая вкраплениями слюды, она словно подмигивает мне, притягивает мой взгляд, удерживает его. И теперь я уже почти вижу их, образы, отраженные в камне, как в зеркале. Я продолжаю смотреть на поверхность гранитной плиты, и они постепенно обретают форму и смысл, промельки той жизни, того прошлого, которое и превратило Тьерри тогдашнего в Тьерри теперешнего.
Вот он в больнице. Лет на двадцать по крайней мере моложе. Он стоит снаружи, у закрытой двери, и в руках у него две подарочные упаковки сигар, перевязанных лентой — одна розовой, другая голубой. Он все предусмотрел.
Затем передо мной другая больница. Большая приемная, где на стенах изображены персонажи из мультфильмов. Рядом с Тьерри сидит женщина с ребенком на руках. Это мальчик лет шести. Он бездумно смотрит в потолок, его не интересует ни Винни-Пух, ни Тигра, ни Микки-Маус, ничто вокруг не вызывает ни малейшего блеска в его глазах.
А вот еще какое-то здание — не совсем больница, но что-то в этом роде. И юноша — нет, взрослый молодой человек — идет под руку с хорошенькой сиделкой. Ему лет двадцать пять. Он такой же крупный и неповоротливый, как его отец; у него чуть шаркающая походка, а голова кажется слишком тяжелой для тонкой шеи, и он идет понурившись, а с лица не сходит бессмысленная улыбка.
Теперь я наконец понимаю. Вот она, тайна, которую Тьерри пытался скрыть. Теперь ясно, откуда эта широкая и чересчур веселая улыбка — как у тех, кто торгует вразнос всякой религиозной макулатурой; ясно, почему он никогда ничего не рассказывает о сыне; да и его преувеличенный перфекционизм тоже, в общем, понятен, как и то, почему он порой так смотрит на Розетт — точнее, так старается вообще на нее не смотреть…
Я вздохнула.
— Тьерри, — сказала я. — Ничего страшного. И тебе вовсе не обязательно лгать мне.
— Лгать тебе?
— Насчет сына.
Он так и застыл в смятении; я даже без гранитной плиты легко могла себе представить, что творится у него в душе. Он побледнел, на лбу выступили капли пота, и гнев, только что сменившийся страхом, вновь мгновенно охватил его, точно принесенный каким-то злым ветром. Он встал, вдруг став грозным и неуклюжим, как медведь, смахнул со стола кофейную чашку и так стукнул по столешнице, что шоколадки в ярких разноцветных обертках разлетелись во все стороны.
— У моего сына все нормально, — сказал он твердо, но, пожалуй, чересчур громко для такой маленькой комнаты. — Алан торгует недвижимостью. Он полностью самостоятелен и давно от нас откололся. Я редко с ним вижусь, но это вовсе не значит, что он меня не уважает… не значит, что я не горжусь им!.. — Теперь он уже орал так, что Розетт зажала ручонками уши. — А кто тебе сказал, что это не так? Неужели Ру? Неужели проклятый ублюдок пытался что-то разнюхать?
— Ру не имеет к этому ни малейшего отношения, — сухо заметила я. — Но если ты стыдишься собственного сына, разве ты сможешь когда-нибудь по-настоящему полюбить Розетт?
— Янна, прошу тебя!.. Дело совсем не в этом. Я вовсе его не стыжусь. Но он был моим сыном, а Сара больше не могла иметь детей, и мне просто хотелось, чтобы он…
— Был идеальным. Я понимаю.
Он взял меня за руки.
— Я все смогу вытерпеть, Янна. Обещаю. Мы найдем самого лучшего специалиста в этой области. И у нее будет все, чего она пожелает. Няньки, игрушки…
«Снова подарки», — подумала я. Словно подарки способны изменить его истинное отношение к ней. Я покачала головой. Душу не переменишь. Можно лгать самому себе, притворяться, надеяться — но все равно в итоге останешься в той стихии, где был рожден.
Он, должно быть, прочел это по моему лицу и сразу помрачнел, осунулся, плечи обвисли.
— Но ведь все уже почти готово, я обо всем договорился, — промямлил он.
Не «люблю тебя», а «все уже почти готово».
Во рту у меня было горько, и тем не менее меня охватила странная радость. Словно какая-то отрава, застрявшая у меня в горле, вдруг сама выскочила оттуда…
Над дверью звякнули колокольчики, и я, не думая ни секунды, сложила вилкой пальцы, отгоняя беду. Да уж, от старых привычек так просто не избавиться. Я этим жестом не пользовалась уже несколько лет. И все же победить внутреннюю тревогу не сумела — мне казалось, что любая мелочь способна сейчас пробудить иной ветер, Ветер Перемен. А когда Тьерри ушел и я осталась одна, мне показалось, что я слышу в этом ветре чьи-то голоса, голоса Благочестивых, и чей-то далекий смех.
Ознакомительная версия.