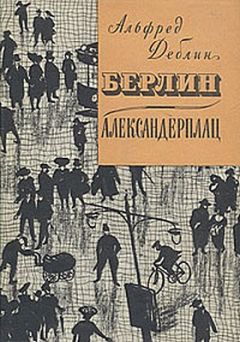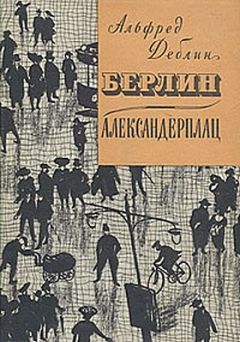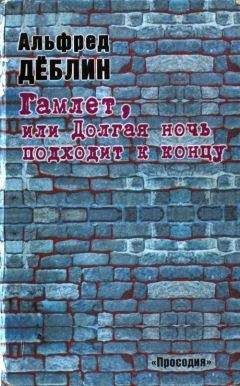Наконец встряхнул он ее за плечи, заорал:
— Что тебе надо? Пусти меня, слышишь? "На что она мне, эта сука?"
— Да ведь я же с тобой, Францекен. Я же от тебя не ушла.
— Нужна ты мне!
— Не кричи так, ах, боже мой, что же я такое сделала?
— Ступай, ступай к нему, раз ты его любишь, паскуда.
— Я не паскуда, ну, Францекен милый, не кричи, я ведь ему уж сказала, что это невозможно, и я от тебя не уйду.
— А на что ты мне, такая, нужна?
— Я ему сказала, что я тебя не покину, и убежала к тебе. Думала, хоть ты меня утешишь.
— Да ты совсем с ума спятила! Пусти! Совсем рехнулась! Ты влюблена в него, да я же тебя и утешай.
— А кто же меня утешит — если не ты, Францекен, ведь я же твоя Мицци, и ты меня любишь, ах, а тот-то, бедненький, ходит теперь один и…
— Ну, кончай, Мицци! Ступай к нему, возьми его себе.
Тут Мицци как завизжит и еще крепче в него вцепилась.
— Ступай, ступай, пусти меня, слышишь?
— Нет, не пущу. Значит, ты меня не любишь, значит, я тебе надоела, чем я виновата, что я сделала?
Наконец Францу удалось вырвать руку; он пошел к двери, Мицци метнулась за ним, но в ту же минуту Франц обернулся и с размаху ударил ее по лицу, так, что она отлетела в сторону; потом толкнул ее в плечо, она упала, а он бросился к ней и давай бить ее своей единственной рукой куда попало. Мицци скулит, корчится от боли, а он бьет и бьет, она перевернулась, легла на живот, закрыла лицо руками. Остановился Франц дух перевести, а комната вокруг него ходуном ходит; Мицци приподнялась:
— Только палкой не бей, Францекен, довольно, не надо палкой!
Сидит она на полу — блузка растерзана, глаз заплыл, из носа кровь течет — левая щека и подбородок в крови.
А Франц Биберкопф — какой он Биберкопф, у него теперь даже имени нет — стоит, ухватился за кровать, все вертится вокруг него… Ах, да ведь там лежит этот Рейнхольд, лежит, свинья, в сапогах на чужой кровати. Что ему тут надо? Что, у него своей комнаты нет? А вот мы вытряхнем его оттуда да с лестницы спустим, с нашим удовольствием. И вот Франц Биберкопф, так ведь его зовут, кажется, подскочил к кровати, схватил Рейнхольда за голову, потянул вместе с одеялом; тот брыкается, одеяло в сторону, и Рейнхольд сел на кровати.
— А ну-ка вытряхивайся, Рейнхольд, живо, взгляни на эту красавицу — и вон отсюда!
Широко раскрытый рот Мицци перекосился от ужаса… Землетрясение, молния, гром! Железнодорожный путь взорван, рельсы изогнулись, стоят торчком, вокзал, будка стрелочника — в щепы, треск, грохот, дым, смрад, ничего не видать, все вдребезги сметено, стерто с лица земли…
— Ну, чего ты, что стряслось?
А изо рта Мицци рвется крик, вопль ужаса. Словно хочет она криком отгородиться от того, кто смутно, как в дыму, виднеется там, на кровати… пронзить его криком насквозь; громче, еще громче… захлестнуть его криком!
— Заткни глотку, ну, что стряслось? Перестань, я тебе говорю, весь дом сбежится.
Вопль нарастает, вздымается волной, ширится. Время словно остановилось — нет больше ни дня, ни ночи, один лишь неумолчный крик.
И вот уже Франца захлестнула эта волна криков. Бей, бей, бей — круши! Схватил он стул и грохнул им об пол, — стул вдребезги! Рванулся к Мицци, — та все сидит на полу и визжит на одной ноте не умолкая. Зажал ей рот, опрокинул на спину, навалился грудью ей на лицо… Гадина!.. Убью!
Визг оборвался, Мицци дрыгает ногами, пытается вырваться, Рейнхольд подскочил, хочет оттащить Франца.
— Ты ж ее задушишь!
— Убирайся… к черту…
— Вставай. Вставай, тебе говорят.
Оттащил Франца в сторону. Мицци лежит ничком на полу, откинула голову, стонет, хрипит, все еще судорожно отбивается руками и ногами. А Франц снова рвется к ней, кричит захлебываясь:
— Сволочь ты, сволочь! Ты кого бить хочешь?
— Пойди-ка, Франц, пройдись малость. Надень куртку и очухайся, успокоишься — тогда вернешься!
Мицци слабо застонала, приоткрыла глаза. Правое веко побагровело, вспухло.
— Ну, проваливай, брат, проваливай, а то еще прибьешь ее, чего доброго. Возьми куртку-то. На! — Сопя и отдуваясь, Франц дал надеть на себя куртку.
Тут Мицци приподнялась на локте, отхаркивает кровь, силится что-то сказать, потом выпрямилась, села на полу и прохрипела:
— Франц, Франц!
Тот уже в куртке. Рейнхольд подал ему шляпу.
— Франц… погоди! Я с тобой! — Мицци отдышалась, к ней вернулся голос.
— Нет, оставайтесь-ка дома, фрейлейн, я вам помогу.
— Францекен, я с тобой!
Тот постоял, поправил шляпу на голове, чмокнул губами, сплюнул и пошел прочь… Тррах! Дверь захлопнулась.
Мицци со стоном поднялась на ноги, оттолкнула Рейнхольда и заковыляла к двери из комнаты. Но в коридоре силы покинули ее. Франц ушел, уже спустился с лестницы. Рейнхольд перенес Мицци в комнату, стал ее на кровать укладывать, а она, задыхаясь, выпрямилась, села, харкая кровью, прохрипела:
— Вон, вон отсюда!
Один глаз у нее заплыл, а другой в упор глядит на него. Сидит, свесила ноги, не может встать. Ишь слюни распустила. Кровавая слюна еще течет у нее изо рта. Рейнхольда передернуло, пора и в самом деле сматываться, а то люди сбегутся, подумают, что это я ее так обработал, в чужом пиру похмелье… Нет уж, спасибо! Привет, фрейлейн! Шапку набекрень, и — за дверь.
Внизу остановился, стер с левой руки кровь — тьфу, гадость! Потом рассмеялся.
— Для этого Франц и затащил меня к себе? Хорош театр! Ну и дурак! Да еще уложил меня в сапогах на свою кровать. Лопнет он, олух, теперь от злости. Что, схлопотал, брат, по харе? Где-то тебя теперь нелегкая носит?
"Вывески, указатели", "Эмалированная посуда" …Эх, и занятно было там наверху, просто загляденье. Нет, какой идиот! Отлично, сын мой, большое тебе спасибо, продолжай в том же духе. Ох, умрешь со смеху!
А Борнемана-то в Штеттине снова в кутузку засадили… Вызвали туда его жену, первую, настоящую. Ах, господин комиссар, оставьте ее в покое, она под присягой по-честному показывала, — думала, что так оно и есть. Ну и мне годика два еще накинут, — подумаешь годом больше, годом меньше…
* * *
А вечером у Франца с Мицци в комнате сплошное умиление. Смеются они, обнимаются, целуются, друг на друга не наглядятся.
— Ведь я тебя чуть не убил, Мицци. Здорово я тебя отделал.
— Пустяки. Главное, ты вернулся.
— Ну, а тот, Рейнхольд, сразу ушел?
— Да.
— Что ж ты меня не спросишь, Мицци, зачем он приходил?
— А зачем спрашивать?
— Разве тебе не интересно?
— Ни капельки.
— Нет, ты послушай, Мицци…
— Да нет же, и слушать не хочу, все это — чепуха.
— Ты о чем?
— Да о том, что ты будто хочешь меня ему продать.
— Ах, Мицекен…
— Теперь я знаю, что это вздор.
— Он хоть мне и друг, Мицекен, но он с женщинами свинья свиньей. Вот я ему и хотел хоть один раз показать, что такое порядочная девушка. Пускай, думаю, посмотрит.
— Ну и бог с ним.
— А ты меня еще любишь? Или только того молодчика?
— Я твоя, Франц!
СРЕДА, 29 АВГУСТА
И вот уже два дня подряд Мицци не видится со своим покровителем. Она не отходит от своего ненаглядного Франца, обхаживает его, ездит с ним за город. Побывали они в эти дни в Эркнере и в Потсдаме. Но кое-что она, бесенок этакий, и теперь от него скрывает, и даже больше, чем прежде. Зато она уже не беспокоится за своего ненаглядного Франца: пусть себе ходит с Пумсовой компанией, она тоже не будет сидеть сложа руки! Она решила сама познакомиться с этой публикой — где-нибудь на танцах или в кегельбане. Франц почему-то никогда ее не берет туда. Вот Герберт бывает с Евой в таких местах, а Франц говорит: "Нечего тебе туда ходить, не хочу, чтоб ты водила знакомство со всякой сволочью".
Но наша Соня, она же Мицекен, хочет услужить своему Францу, наша маленькая кисанька хочет ему помочь — так ведь лучше, чем просто зарабатывать деньги. Она уж все там разузнает и сумеет его защитить.
И вот, на очередной танцульке в Рансдорфе, куда Пумсовы ребята прибыли в полном составе, появилась новенькая. Никто ее не знал. Пришла она с жестянщиком, но весь вечер не снимала маски с лица. Танцевала она со всеми, один раз даже с Францем, но только один раз, а то еще узнает ее по запаху духов. Это было в парке на берегу Мюггеля; как стемнело — вспыхнула иллюминация. Но вот отвалил от берега последний пароходик, битком набитый народом, оркестр сыграл прощальный туш, а наша компания и не думала уходить. Веселились и бражничали до самого утра.
А наша Мицекен порхает с жестянщиком. Тот важничает — вот, мол, какая у него шикарная подружка. Всех видела Мицци — и Пумса с его благоверной, и Рейнхольда, уныло сидевшего в уголке, — опять он все хандрит да хандрит, — и элегантного купчика. В два часа жестянщик увез ее в такси. Дорогой целовались взасос. А что? Подумаешь, большое дело, она как-никак недаром вечер провела, многое узнала, а от поцелуев ее ведь не убудет. Что же она узнала, наша Мицекен? Как что? Теперь она их всех в лицо знает, Пумсов этих! Мало вам? А жестянщик-то ее тискает. Ну и пусть, — она Францу все равно не изменит. Машина мчится в ночной темноте… Вот в такую же ночь эти негодяи выбросили ее Франца из автомобиля. Ну, теперь-то он с ними рассчитается; он-то уж знает, кто из них это сделал. Недаром они его боятся — вон даже Рейнхольда, нахала этого, к ней подсылали. Франц, Франц, милый, золотой мой, до чего же я тебя люблю, — и Мицци от избытка чувств к Францу так бы, кажется, и зацеловала до смерти жестянщика. А тот рад стараться. Ничего, целуй, голубчик, целуй, я тебе еще язык откушу! Ух, как подбросило! Лихач шофер, — он нас в канаву вывалит! Чудно как вечер провели!.. Куда ехать-то, направо или налево? Поезжайте куда хотите! Какая ты прелесть, Мицци! Раз я тебе, Карл, по вкусу пришлась, так и бери меня с собой почаще! Гоп-ля! Гонит как бешеный. Пьяный, что ли? Того и гляди в Шпрее нас утопит!