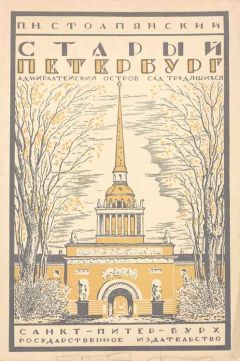Удачи Стратановского в последнее десятилетие связаны с переходом от лирики к эпосу. В молодости серьезно изучавший мифологию и фольклористику (под руководством самого Проппа), он обратился к мифологическому наследию тюркских, финно-угорских, палеоазиатских и других «коренных» народов Восточной Европы и Северной Азии. В сущности, это особый мир дорусской России, соотносящийся с исторической страной, как у Толкина — мир эльфийского Средиземья с пришедшим ему на смену миром людей, как мир хтонических титанов Голосовкера с миром олимпийцев. Этот древний мир пропитан магией; но магия эта умирает, уходит, и именно ее гибель и является основной темой книги. От магических сил отрекаются добровольно: карело-финский первочеловек Вяйнямёйнен не может (или не хочет) помочь русскому князю волшебным словом, но вступает рядовым в его войско, чтобы встретить долгожданную смерть; шаман отказывается от своей силы ради спасения жены; чукча Кымылькут предпочитает смерть от горя магическому насилию над возлюбленной. И все же древние боги не до конца покидают мир: они лишь переселяются в иное измерение, в вечность, оказываются современниками, собеседниками и Гильгамеша, и нынешних людей с их болями и проблемами —
<…>
потому что мир Нижний, мир хищный
Никогда не исчезнет.
Стратановского легко обвинить в модернизации, в «гуманизации» мифа, смягчении его древней, беспощадной, внеэтической природы. Но таковы законы, по которым работает поэт: он — не романтик и не юнгианец. В древнем, архаическом он выбирает то, что соответствует самоощущению и нравственному опыту современного человека, что связывает это самоощущение и этот опыт с вечностью.
В выборе сюжетов и их разработке нет поражающей воображение экзотики, но есть мудрость и благородство.
Прозаическое повествование на сюжет тюркского эпоса «Идигей», включенное в книгу, на наш взгляд, несколько слабее стихов.
А л е к с а н д р М и р о н о в. Без огня. М., «Новое Издательство», 2009, 120 стр. («Новая серия».)
Среди нескольких больших поэтов уже помянутой блистательной ленинградской плеяды 1970-х Миронов — самый странный, даже загадочный по своему генезису. Для всех этих поэтов культурное сливалось с природным, стихийным; культура осмыслялась как переплетение саморазвивающихся, жизнедающих и опасных энергий. Но и Стратановский, и, конечно, Кривулин, и даже Шварц (хотя в ее случае это наименее очевидно) шли из рационального вольтеровского космоса в бессознательное, осмысляя и осваивая его. Миронов же двигался в обратном направлении; его лирика начинается со сводящих дыхание энергетических волн, источник которых — и уязвимая телесность поэта, и культурная память, сливающаяся в подобие тревожного и сладкого сна. Та же самая память, но уже более ясная, «дневная» ее ипостась помогала овеществить и оформить эти волны.
Как и Стратановский, Миронов сильно изменился в 1990-е. Лирические волны стали суше и острее (но не слабее), память — более избирательной, но притом более ломкой, нервной. Новая книга состоит из совсем стихов старых и написанных в последнее десятилетие. Среди старых есть и неоднократно печатавшиеся («Сколько праздников! Сколько естественной радости, радужной пыли…», «Чуть солей, чуть кровей — придушить и размять…», «Свет сплоховал, и я зажег свечу…» и др.), есть и стихи, не вошедшие в вышедший шесть лет назад однотомник. Среди них — трогательное и красивое стихотворение на смерть В. Н. Петрова, талантливого прозаика, искусствоведа, мемуариста, друга Хармса и Кузмина:
<…>
Как память-гостья по реке опальной,
Явилась смерть с подарком ледяным.
Он вспомнил все. Она вошла, как пальма,
Когда Господь прислал ее за ним.
Сейчас Миронов пишет совсем иначе. Все «красивое», «музыкальное» осталось в прошлом. Мандельштам писал в «Четвертой прозе», что теперь ему в поэзии любо только «дикое мясо, сумасшедший нарост». Он-то обострял или лукавил, а Миронов в самом деле оставил от своей поэтики только это «дикое мясо», обрамленное информационными шумами, потоком сознания. Поэт не пытается сделать из этого хаоса «хорошие стихи» в обычном смысле слова. Это не значит, что среди стихов последних лет нет очень хороших и очень хорошо сделанных , как, например, «Изуверясь, извратясь…» или «Капнул дождь, как старческое семя….». Но они написались как бы случайно, сами по себе. В своей бескомпромиссности поэт ничего из написанного не хочет «закруглить», ничему не хочет придать благополучную формальную структуру — как бы в издевку заканчивая стихотворение не ожидаемой «остротой», а бессмысленным напевом:
Это город Петроград,
Исторический окурок?
Или город Петербург,
Город урок или турок?
Может, город Ленинград,
Где родился я, придурок,
Там, где мама умерла,
Мой сурок всегда со мной.
Мой сурок еще со мной.
Но зато воплощенный в слове момент осознания бытия прорывается с такой последней точностью и ясностью, какая в ином случае, может быть, была бы невозможна. А ведь поэзия — это в конечном итоге именно такое осознание:
Все продано, все проклято.
С берестяной таблички
Какую руну нам прочесть.
Скворцы и живчики,
Синильные синички,
Опомнитесь!
Бог есть.
И л ь я К у ч е р о в. Стихотворения. М., «Гулливер», «Центр современной литературы», 2009, 68 стр. («Поэтическая серия „Русского Гулливера”».)
В сорокапятилетнем возрасте Кучеров выпускает вторую книгу: первая, увидевшая свет одиннадцать лет назад, прошла почти не замеченной. В сущности, это был выбор самого поэта: ученый-ботаник по основной профессии, он всегда сторонился публичности и избегал участия в литературной жизни. Тем не менее в ряду поэтов своего поколения он занимает далеко не последнее место.
Кучеров работает в основном в традиции постмандельштамовской «химии слов» (по Эйхенбауму), которая была одной из основных для поколения 80-х. Мандельштам в его случае соединяется с гумилевско-киплинговской балладной традицией. Но балладные структуры у Кучерова рождаются, пожалуй, уже по ту сторону химического, точнее, алхимического процесса. Так же как (псевдо)мифологические конструкции, которые являются не движущей силой, а скорее результатом реакции.
Своеобразие Кучерова — в том удивительном наборе интеллектуальных артефактов, которые поступают в алхимический котел. В сущности, это все то, что составляет внутренний мир современного интеллигента, без всякого разбора: от Розанова до Урсулы Ле Гуин; от «Одиссеи» до «Белого солнца пустыни»; от Тынянова до Гребенщикова; от Даниила Андреева до романов про Анжелику… Все это воспринимается всерьез, без малейшей иронии, все является источником разнородного напряжения. И тут же — мир природы, которую автор, посвятивший жизнь изучению северороссийских лесов и тундр (от Карелии до Чукотки), знает в таких подробностях, какие непрофессионалу недоступны, и которая от того не становится менее загадочной и губительной. Роль автора — страдательная, он — реципиент этих спорящих энергий, но лишь он, внутри себя, может сплавить их в причудливое целое (в лучших стихах это ему вполне удается). Сходство внутренней «технологии» предопределяет в некоторых кучеровских вещах последнего десятилетия близость к интонации и мотивам раннего Миронова (но это не прямое влияние):
Он был моим братом и пил мое семя,
Пока я не стал за себя отвечать,
Но если настанет служебное время,
Нам вместе вращать рукоятку меча.
Зеленым налетом покроется лето,
Герой Перемышля выходит в дозор.
Пусти нас, Афина! С нас хватит полета
В овраг, где ракиты да вечный позор…
Однако своеобразное сюрреалистическое остроумие («…не отрекись, когда медведь-еврей от нас потребует одной и той же крови»), не разрушающее серьезность внутренней задачи, связывает его с несколько иной традицией петербургской поэзии — так же как поэтизация детских воспоминаний, одновременно идиллических и трагических в своей основе: