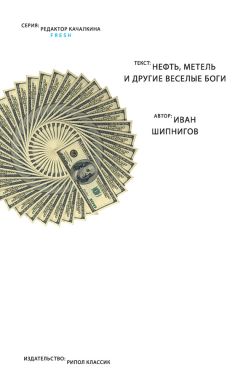Говорят, что в эти грозные дни можно было увидеть и другие программы. Говорят, что видели в прямом эфире человека в судейской мантии, отчаянно бьющего молоточком по голове милиционера, который эвакуировал павильон – налицо был конфликт судебной и исполнительной власти. Говорят, что видели в креслах государственных новостных дикторов людей, тревожно вещающих о многомиллиардных бюджетных распилах. Наверное, это были топовые блогеры, но точно можно сказать, что долгожданной «свободе слова» радовались только они сами: во-первых, что от этого изменилось, а во-вторых, Екатерина Андреева в сотни раз красивее. Говорят, что в тоннелях метро видели лысого голого человека, обладающего сверхъестественной силой: он останавливал поезда, гнул рельсы, расшатывал подземные своды, и эти невероятные способности будто бы развились у него от специальной укрепляющей диеты, состоящей из собственных испражнений. Про оператора никто ничего не слышал. Говорят, что кто-то подробно снимал костюмерную одной передачи, посвященной моде и стилю, и по ярлычкам, по необорванным ценникам, по общему виду вещей всем стало ясно, что там сплошной черкизон. Говорят, будто обиженный помощник Якубовича дал разоблачающее интервью, в котором рассказал, что все съедобные подношения игроков продаются на Савеловском рынке, а на вырученные деньги покупаются все эти чайники и миксеры, и что это сложная, отлаженная схема, и что там большие деньги. Говорят… Да пусть говорят!
Башня становилась все меньше. Ласточки летали все ниже. Одно мы знаем точно. Страна, лишенная поддерживающей сетки вещания, всколыхнулась и оплыла, как выдернутая из корсета молодящаяся толстая тетка. Страна чесалась, зевала, слонялась, шаталась, валялась, спала.
Только двое оставались на связи. Один не сдавался, другая не переключала. Оборванный, худой и грязный человек в когда-то оранжевом галстуке украл у охранника из проходной в ближайшем офисе маленький черно-белый телевизор. Поставил его впритык к антенне, включил спрятанную заранее камеру. Вытащил из пакета важный реквизит: рваную обшивку с красных диванов, расстелил ее вокруг. Привычно сделал отсчет и зачастил: «Это программа «Пусть говорят» на Первом канале!» Глядя на себя в телевизор, он знал, что кто-то его еще смотрит, и поэтому он должен вещать до последнего. Где-то очень далеко, в морозном безжизненном космосе, перед телевизором сидела Нина Васильевна. Она не моргала; в наступающей тьме ее глаза переливались, светясь отраженным экранным светом.
2010 г.
Всемирная выставка инновационных технологий, проходившая в Москве в январе – марте 2010 года, забудется еще не скоро, если забудется вообще. В том морозном волшебном январе французский архитектор русского происхождения Эмиль Поташевич поставил величайший в истории архитектурный эксперимент: вокруг Останкинской башни он выстроил копию Эйфелевой. Французский ажурный чулок нежно облегал стройную русскую ногу, и даже пропорции длины примерно совпадали. Глядя на эти подсвеченные инеем башни глазами лилипута, невозможно было избавиться от величественной и волнующей иллюзии: женщина сидит на кровати, поджав одну ногу под себя, а другую, уже одетую, поставила на пол и сейчас где-то в ледяных облаках собирает в гармошку второй чулок. Кстати, слово «иллюзия» в те дни постоянно употреблялось в прессе; журналисты, в большинстве своем народ простой и не способный к стилистическим изыскам, наперебой вставляли это нехитрое словцо в свои статьи, принимая его за какой-то небывалый поэтизм.
Эмиль Поташевич в своих интервью не раскрывал главную тайну: кто заказал ему это башенное сочетание. Уклончиво и неясно говорилось о межправительственной договоренности, согласно которой в рамках года русско-французской дружбы планировалось осуществить другие, не менее масштабные проекты. Наш президент и в особенности премьер-министр дали в ту зиму массу интервью, но никто из журналистов и словом не обмолвился о башнях – наверное, все они от волнения забывали, о чем хотели спросить. Французы молчали тоже. Поташевич отвечал ясно лишь на один вопрос:
– Мы хотим сносить эту башню когда кончать выставка. Великий Эйфель не увидеть смерти своего детища (Поташевич произносил это слово с ударением на втором слоге), мы же выполнять свое обещание перед правительством и сносить после выставка.
– Но Останскинская башня не пострадает? – волновались красные от мороза журналисты.
– Вы не можете беспокоиться, ваша башня останется с вами. Вы дальше можете смотреть Петросьян, – улыбался учтивый француз, искренне желая сделать приятное русским друзьям, о вкусах которых он успел составить превратное, но не лишенное оснований мнение; но русские друзья принимали это за грубую злую шутку и обижались, и красная от мороза грудастая девица в кокошнике совала дорогому гостю хлеб-соль чуть ли не в лицо.
Вежливый француз принимал это за особенности русского обычая. Диалог культур все же не клеился.
По-настоящему он наладился в конце февраля, когда двойная башня начала непредвиденное и слишком поздно замеченное вещание.
Первой к Останкино потянулась московская молодежь. Студенты и студентки, несмотря на мороз, прогуливались возле архитектурного чуда, фотографировались, целовались. Многие девушки, не боясь застудить свои нежные придатки, ходили в чулках и, презрев условности, приподнимали полы пальто, демонстрируя фотографировавшим их парням расчерченные сетчатым узором юные бедра. На некоторых из них под чулками были теплые колготки, но все равно поток пострадавших от башен, вскоре хлынувший в московские больницы, начался именно с этого тоненького чулочного ручейка. Признаться, эти тихие московские девушки чересчур напоминали бы обыкновенных проституток, если бы не выражение девственной скромности, поселившееся на их лицах в те дни. Не боясь быть вульгарными, они были просто красивы; и кто знает, отчего так? Что за таинственные лучи так сильно изменили лица юных москвичек? Задумываясь над этими вопросами, мы рискуем отвлечься от нашего повествования.
Идиллия (еще одно слово, чрезвычайно популярное в те дни), впрочем, вскоре была грубо нарушена. К юным красавицам постепенно стали примешиваться трансвеститы. Вокруг стройной Останкинской башни, затянутой в ажурный чулок Эйфелевой, стали прогуливаться крашеные мужчины в узких женских пальто, из-под которых торчали кривые красные ноги с кожным раздражением от бритья. Надо ли говорить, что к этому времени Останкино стало культовым местом? Надо ли говорить, что началось ужасное?..
Вслед за придатками девушек начали страдать лица трансвеститов, и не от природы, а от рук человеческих. Трансвеститы довольно быстро были разогнаны крепкими парнями в беретах, и бабушкам с хоругвями ничего не досталось. Есть известный закон: идейная близость выявляет родство стилистическое. Сохранилось несколько интервью с прохожими, поясняющих эту мысль.
Корреспондент подносит микрофон ко рту парня в берете (тот морщится от слова «интервью») и спрашивает, как он относится к этой оригинальной и дерзкой идее – создать антропоморфный архитектурный образ, объединив две известные башни в одну постмодернистскую, нагруженную культурными смыслами конструкцию. Парень мучительно формулирует что-то про себя, несколько раз оборачивается в сторону башен (он стоит к ним спиной), затем с ненавистью смотрит в камеру и отвечает:
– Блядство это все. Блядство.
– Что, простите? – уточняет корреспондент. – Эти молодые люди, переодетые в женскую одежду, вызывают у вас такое неприятие?
– Да хуй с ними, с пидарасами, – устало, сокрушенно машет рукой парень. – Башни ваши – блядство.
Ролик обрывается.
Другое видео значительно короче. Гневная старушка ритмично плюет в сторону башен и выкрикивает как заклинание:
– Блядство! Блядство! Блядство!..
Конечно же в эфире всего этого не было; ролики были слиты в Интернет самими телевизионщиками.
Рискнем предположить, что десантники и бабушки с хоругвями были единственными социальными группами, у которых Эйфелево Останкино (возьмем это не уклюжее определение в качестве рабочего термина) вызывало лишь недовольство. Все остальные москвичи поначалу были рады башням.
Часто в те дни можно было наблюдать удивительные картины: в освещенных окнах многоэтажек счастливые раскрепощенные пары, вызывающе отдернув шторы, вовсю предавались французской любви. Женщины поскромнее, наблюдая в соседском окне, как энергично покачиваются взад-вперед силуэты коленопреклоненных девушек, никак не могли решить для себя, красиво это или уродливо, стоит попробовать или нет, а неуверенные в себе мужчины пытались на расстоянии прикинуть, так ли уж они неполноценны. Магия любви передавалась будто по морозному плотному воздуху, и нередки были случаи, когда двое одиноких соседей, несколько лет здоровавшихся возле лифта – он починил ей кран, она пришила ему пуговицы на рубашку, – вдруг одновременно выходили на площадку и, как школьники, стояли друг против друга, опустив взгляды. Последующая близость была настолько бурной, что люди забывали предохраняться, перейдя к классическому соитию, и не иначе как этим объясняется всплеск рождаемости, наблюдавшийся в ноябре того же года.