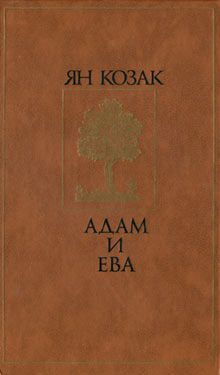Не ответила Ева и на второе мое письмо.
На переломе года у Олдржиха резко обострилось чувство собственной значимости. Его послали учиться в Усти-над-Лабой, в наш областной центр. Когда он возвратился, ему предложили работу референта в отделе сельского хозяйства районного национального комитета. Это Олдржиху-то! Я возражал против такого назначения. Просто не мог себе представить, как это он станет копаться в бумагах, а тем более что-то решать и кем-то руководить. Это он-то! Какая нелепость! Назначение приводило меня в ярость, но меня никто не поддержал. Пришлось даже выслушать подозрительное предположение, уж не завидую ли я часом. Наша партийная организация и руководство госхоза хитро рассудили, что иметь в комитете своего человека — дело выгодное.
Олдржих был на коне. Словно получил официальное поощрение и компенсацию за перенесенные прежде страдания и муки. Словно мстил мне, сводя счеты.
А тут ударили сильные, чуть не арктические холода. Заботы и тревоги обрушились на меня снежной лавиной и росли день ото дня. Расхаживая по саду, я с тревогой думал о том, как уберечь деревья от морозов. Заботила меня судьба всех саженцев, но особенно опасался я за своих любимцев — за персики. Я готов был согревать их дыханьем, закутывать в одеяльца — только бы спасти. Ведь сад был единственной отрадой, которая мне теперь оставалась.
Стоишь, бывало, в старом пастушеском кожухе, с шерстяным шарфом на шее, в ушанке, надвинутой чуть не на нос, и начинает чудиться, что в заколдованной этой мертвой тишине, в смертельной зимней спячке стонут и плачут деревья. Слышны их всхлипывания. «Умрут ведь, закоченеют, — шепчу я себе. — Не вынесут холодов. Хоть и не умеют они метаться от боли, да ведь все равно живые, у них и душа есть. И эта душа отлетает». Мороз обжигает их, и боль передается мне. Я ощущаю эту лютую, свирепую стужу в своем сердце. И страдаю и мучусь вместе с ними; вместе с ними коченеет и цепенеет моя душа.
Мне не впервой оставаться в полном одиночестве.
Почти четыре года назад я потерял жену. Это был прочный союз, хотя первые несколько лет были очень тяжелыми. Врачи находили, что у Милены не может быть детей. И чем меньше надежд оставляли ей доктора, тем сильнее тосковала она по ребенку. Плакала ночи напролет. Но после операции и курортов наконец забеременела. Мы словно заново родились и с нетерпением ждали появления младенца. Снова и снова Милена считала месяцы, недели, дни. Она точно очистилась от какого-то греха, снедавшего ее душу. И даже запела. Старательно береглась, и я помогал ей, чем только мог. Но как-то поехала к врачу и не вернулась. Автомобильная катастрофа. Радовались мы всего пять месяцев…
Я чувствовал себя камнем, брошенным на дно реки: жил сам собой, сам по себе и сам в себе, неизменно вновь и вновь воскрешая картины ее страданий. Мне казалось, что жизнь кончена. И где, как не в работе, оставалось искать забвения, утешения и помощи? И лекарства для незаживающей, мучительной раны.
Но недаром говорится, что время и труд — лучшие лекари.
В один прекрасный день я с удивлением отметил, что, работая в саду, насвистываю какой-то мотивчик. И что у меня вполне сносно на душе. И я радуюсь, предвкушая, как начнут наливаться соком маленькие еще, бледненькие яблочки. И как мы соберем урожай. В то время у нас начала плодоносить первая яблоневая пальметта и мы готовились насадить вторую…
Мороз щиплет лицо. Отяжелевшие веки закрываются сами собой, ноздри слипаются, а щеки надо растирать, чтоб не поморозить.
Я возвращаюсь. Сбрасываю кожух. На очереди еще один томительный, пустой вечер. Сажусь за книгу, но поминутно откладываю ее в сторону… Дышу на замерзшее окно и сквозь отпотевшее, но быстро затуманивающееся стекло гляжу на дрожащее от холода звездное небо. И сердце у меня дрожит, как искристый небесный свод. Меня гнетет страх, что все мои труды, моя последняя радость, пойдут прахом, погибнут. Мне зябко, я ложусь в постель, но не сплю. Думаю. О жизни, обо всем, что взбредет в голову.
Ева.
Чем объяснить, что она так прикипела к моему сердцу? Каким околдовала его колдовством? И почему именно ее я полюбил? Не возьму в толк, не знаю. Но неотступно думаю о ней. Все в ней привлекательно. Черты лица… Фигура… Конечно… И потом — эта искрометная живость в минуты душевного равновесия. Она ждала, она решилась. Я это видел, я не мог обмануться. Она стремилась к близости. И все-таки что-то связывало ее и наконец сковало совсем; она запуталась. Вот только в чем?.. Когда мы встретились, она сразу приглянулась мне; я был даже рад, эгоистически рад, что ей довелось изведать, почем фунт лиха. Не так ли было и со мною? Кто выстоял, несмотря на страдание, тот стал сильнее, тот сможет выдержать и горшие испытания. Он шире душой и щедрее сердцем… Сложнее и понятливее. Благодарен за понимание, за доставленную радость. А этот ее бывший муж? Не мог придумать для нее ничего лучше, как обречь еще и на разрыв. Вот о чем я размышлял непрестанно.
Значит, все потеряно! Снова я один. А труды рук моих губит мороз…
Я выглядываю в окно. Оно все затянуто густой изморозью. Где-то за стеклом угадываются мерцающие звезды. А я съежился в комок, словно и меня сейчас обжигает, режет, сечет смертельный холод. Пробирает до костей… Мысли мои о том, что могло случиться и не случилось. Я опустошен. У меня вынули сердце и душу. Я сливаюсь со всем, что там, снаружи, за окнами, где крепчает трескучий мороз. Я весь дрожу и проклинаю стужу. И молю небо послать снег, чтобы он мягкой подушкой прикрыл землю.
Наконец-то пришла весна. Лазурное, словно начисто вымытое небо дышит теплом, лишь изредка кое-где проплывает ослепительно белое облачко. Солнце словно решило возместить нам ущерб за свои зимние упущения. Светит и греет с раннего утра.
Прутики верб уже порозовели, а на межах и в канавках среди прошлогодней травы проглядывают головки мать-и-мачехи и первой молодой зелени. Воздух напоен влажным дыханием земли и звенит птичьим щебетом.
А у меня перехватывает дыханье. Изо дня в день обхожу я свой сад, от деревца к деревцу, снова и снова пристально осматриваю их. Я едва бреду, с трудом передвигаю ноги… Сердце мое обливается кровью, а на глаза набегают слезы. Какая жалостная участь — смотреть в лицо деревьям, которые ты сам посадил, пестовал, холил, лечил, и вот теперь они стоят мертвые посреди весны, раскрывающей свои объятья. Топорщатся их голые стволы, торчат, как скелеты. Ветви уцелели, а душа — вон. Все персики и абрикосы на плантации вымерзли. Их спалило морозом, не выжило ни одно деревце. Яблоням и грушам тоже пришлось несладко. Хотя по некоторым веточкам уже побежали соки, но почки распускаются далеко не на всех. На многих стволах и ветках чернеют трещины. Этим горемыкам предстоит долгое лечение, восстановление или ампутация обмороженных мест. Столько труда пошло прахом. И сам я кажусь себе калекой, побитым морозом, убогим и сирым.
Мне жаль себя, я горюю и предаюсь воспоминаниям. Как же это было давно, когда молодым выпускником агрономического училища я впервые пришел сюда и заложил этот сад: впервые взял в руки мотыгу и заступ и, выкопав яму, посадил первое деревце. Из старых досок воздвиг сарайчик для инструмента. Сколько изматывающей работы потребовалось, сколько крови и пота было пролито, прежде чем на пустынном, заросшем сорняком склоне, где поодиночке росли высоченные старые яблони да редкие ореховые деревья, раскинулся наш сад. Я давно уже врос корнями в эту почву. Пережил с нею бури и метели, град и стужу, ливни и изнурительную жару. Дни и ночи, в будни и праздники я страдал и радовался вместе с садом. Сколько пропало трудов и надежд! Зря старался, Адам, зря изводил себя работой!
Так вот стою я у своих персиков и чувствую себя словно на похоронах самого близкого друга. Тру глаза и вздыхаю… Мысленно представляю себе лица и слышу голоса людей, которые, глядя на мои труды, с ухмылкой предрекали мне неудачу.
«Дождался, Адам! Мы ли не упреждали? Это тебе хороший урок! Такой крах надолго излечит тебя от глупостей. Небось поумнеешь!»
Все вели себя так, словно я спятил. А почему? Да потому лишь, что сами — по лени или из боязни — не рисковали предпринять что-нибудь новое. А может, они были правы? Что, это они-то правы? Про себя я постоянно веду с ними бесконечный спор. И хотя терпеть мне невмоготу, высказываться вслух остерегаюсь: приходится признать, что они не ошиблись. И покориться. Что же теперь остается?
Так я рассуждаю и жалею себя, озираясь, как затравленный зверь. И вдруг отмечаю, что не меня одного постигла эта беда. Давний мой неприятель, снегирь, без толку мечется с дерева на дерево. Вот уж продувная бестия! Любит полакомиться почками и бутонами; своим прожорливым клювиком выщипывает почки абрикосов, персиков и вишен. Иногда после его пиршеств в кроне дерев всю землю вокруг ствола усеивают красноватые чешуйки и ветви не приносят плодов. Теперь он в растерянности — попусту ищет, чего бы поклевать. Хорошенькое для меня утешенье, ничего не скажешь.