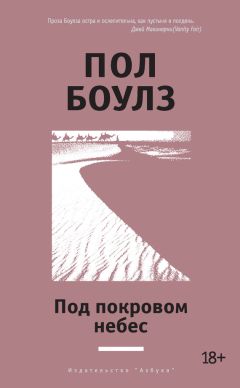– Мне надо идти. Уже поздно.
Марния быстро переводила взгляд с одного мужчины на другого. Потом она произнесла пару слов очень тихо, так что ее слышал только Смаил; он нахмурился, но, делано зевнув, все-таки вышел из шатра.
Они лежали на ложе вместе. Девушка была очень красива, понимала его и слушалась, и все-таки он не доверял ей. Полностью раздеться она отказывалась, но все ее движения – в том числе и жесты несогласия – были изящны, к тому же она производила их так, что в них чувствовалось некое обещание, исполнения которого ему оставалось только дождаться. О время, время! Будь у него время, он, может быть, сумел бы добиться ее расположения, но нынче следовало удовольствоваться тем, что само собой подразумевалось изначально. Он лежал и размышлял об этом, глядя на ее невозмутимое лицо; вспомнив о том, что через день-другой ему ехать на юг, он внутренне попенял на обстоятельства и сказал себе: «Что ж, хоть какой-то кусок урвать…» Перегнувшись, Марния загасила свечу двумя пальцами. Секунду лежали в полном молчании, в кромешной черноте. Затем он почувствовал, как ее мягкие руки медленно обвили его шею, а на лбу ощутил прикосновение губ.
Почти сразу же в отдалении завыла собака. Какое-то время ее вой проходил мимо его сознания; потом он его услышал и расстроился. Какая все-таки неподходящая к моменту музыка! Вскоре поймал себя на том, что представляет себе, как на них молча смотрит Кит. Эта фантазия возбудила его, и мрачный вой больше не досаждал.
Не более чем через четверть часа он приподнялся и попытался заглянуть за одеяло, туда, где полог шатра, – нет, темнотища, не видно ни зги. Внезапно его обуяло острое желание выйти вон. Он сел на этой их тахте, начал разбираться с одеждой. Опять к нему протянулись две руки, обхватили за шею. Он с силой их от себя оторвал, наградив несколькими шутливыми шлепками. Вот снова. Но на этот раз рука была одна, вторая забралась под пиджак, он почувствовал, как она гладит его по груди. Какая-то неуловимая неправильность ее движений заставила его тоже сунуться под пиджак и накрыть ее руку своей. Его кошелек был у нее уже между пальцев. Он выдернул его и оттолкнул девушку, прижав к матрасу.
– А-ай! – вскрикнула она, причем очень громко.
Он встал и начал шумно пробираться, спотыкаясь о преграждающую путь к выходу беспорядочно разбросанную утварь. Она снова взвизгнула, на сей раз коротко. Голоса в соседнем шатре стали слышнее. Все еще держа кошелек в руке, он выбежал, резко свернул влево и побежал к стене. Дважды упал: первый раз налетел на камень, а второй из-за того, что земля неожиданно ушла из-под ног куда-то вниз. Когда во второй раз вставал, заметил мужчину, который бежал наперерез, пытаясь преградить ему путь к лестнице. Порт хромал, но лестница – вот она, уже рядом. Успел, успел! Пока карабкался наверх, ему все казалось, что кто-то гонится за ним по пятам и сейчас, через секунду схватит за ногу. Легкие надулись болью, вот-вот лопнут. Лез с перекошенным ртом, оскалившись и стиснув зубы так, что воздух при каждом вдохе проходил между ними со свистом. У верхней площадки развернулся, схватил булыган, поднять который человеку явно не под силу, все-таки поднял и скатил вниз по лестнице. Потом сделал глубокий вдох и побежал вдоль парапета. Небо стало заметно светлее; серенькая, ничем не замутненная прозрачность расходилась по нему все выше, разливаясь из-за невысоких холмов на востоке. Очень-то быстро бежать он не мог. Сердце билось уже где-то в горле и в затылке. Он понимал, что до города ему такой темп не выдержать. С противоположной от обрыва стороны дороги шла стена, слишком высокая, не перелезешь. Однако через несколько сотен футов верхняя часть стены на небольшом протяжении оказалась разрушенной, а упавшие к подножью камни и глина образовали что-то вроде правильных ступеней. Попав за стену, он пробежал некоторое расстояние в обратном направлении, после чего полез куда-то вбок и вверх по пологому склону, усеянному плоскими каменными плитами, в которых он узнал мусульманские могилы. Наконец сел, минутку посидел, уронив голову на руки, и тут осознал несколько вещей сразу: во-первых, грудь болит и голова, во-вторых, кошелька в руке уже нет, а в-третьих, сердце-то, сердце как громко бьется! Впрочем, еще через мгновение этот гром уже не мешал ему думать, будто снизу, с дороги доносятся возбужденные голоса преследователей. Он встал и вновь заковылял вверх, прямо по могилам. Мало-помалу подъем перешел в спуск на другую сторону холма. Он почувствовал себя немного спокойнее. Однако с каждой минутой близился рассвет, а при свете дня его одинокую фигуру легко можно будет увидеть откуда-нибудь сверху. Он опять пустился бегом, вниз, вниз, все время в одном направлении, то и дело спотыкаясь и не отрывая взгляда от земли из опасения упасть. Так продолжалось довольно долго; кладбище осталось позади. Наконец он выбрался на поросшее кустами и кактусами высокое место, откуда открывался вид на ближайшую округу. Забрался в кусты и сел. Вокруг все было совершенно тихо. Небо сделалось белым. Время от времени он вставал и озирался. Очередной раз приподнявшись как раз в тот миг, когда взошло солнце, он бросил взгляд между двумя олеандрами и увидел его: кроваво-красное, оно отражалось от блистающей соляной себхи, на много миль простершейся между ним и горами.
Когда ее залило горячим утренним солнцем, Кит проснулась в поту. Она встала, на нетвердых ногах доковыляла до окна, задернула портьеры и рухнула обратно в кровать. Простыни, на которых она лежала, были мокрыми. Всякая мысль о завтраке вызывала дурноту. Бывали дни, когда с момента пробуждения она чувствовала, что над ее головой, словно низкая грозовая туча, нависает нечто, несущее гибель. Такие дни бывали трудными от начала до конца, причем не столько из-за нависающего несчастья, предчувствие которого ощущалось очень остро и явственно, сколько потому, что ее привычная и стройная система предзнаменований совсем переставала действовать. В обычные дни, если, готовясь выйти за покупками, она подворачивала щиколотку или расцарапывала голень о какой-нибудь угол мебели, сразу напрашивалась мысль, что весь предполагавшийся поход по той или иной причине обречен на неудачу, да и вообще своим упорством она может подвергнуть себя реальной опасности. В такие дни она, по крайней мере, могла отличить добрые предзнаменования от дурных. Но в иные, особо коварные дни ощущение угрозы бывало столь сильным, что враждебные сущности чувствовались где-то тут, рядом, прямо за спиной; они заранее предвидели всякую ее попытку избежать попадания впросак, предсказанного приметами, и, следовательно, запросто могли по собственному усмотрению усложнить расставленные ловушки. Таким образом, то, в чем на первый взгляд ей мог почудиться знак вполне благоприятный, теперь легко может оказаться не более чем приманкой, специально заброшенной, чтобы ввергнуть ее в опасность. И наоборот, какая-нибудь подвернувшаяся щиколотка может быть знаком ложным, запущенным лишь для того, чтобы она отказалась от намерения выйти на улицу и осталась дома в тот самый день, когда взорвется бойлер, случится пожар или в дверь постучится тот, с кем она особенно хотела бы избегнуть встречи. А уж в личной жизни, во взаимоотношениях с людьми эти соображения достигали у нее размеров просто чудовищных. Она была способна просидеть все утро, силясь припомнить детали какой-нибудь краткой сцены или разговора, которые помогли бы ей выстроить в голове все возможные истолкования каждого жеста или фразы, каждой мимолетной гримасы и интонации со всеми их взаимосвязями и наложениями. Огромную часть своей жизни она посвящала классификации примет. Неудивительно, что, когда это занятие вдруг становилось для нее непосильным (в силу непомерно разраставшихся сомнений), вся ее способность совершать простенькие движения каждодневного бытия почти полностью сходила на нет. Ее словно поражал вдруг некий паралич. Она переставала на что-либо реагировать, как личность исчезала из виду; да и вид при этом имела загнанный. В такие мучительные для нее дни люди, хорошо ее знающие, говорили: «А, ну, у Кит нынче опять особый день». Если в такие дни она вела себя сносно и казалась вполне разумной и рассудительной, то лишь постольку, поскольку механически подражала тому, что ей казалось рациональным поведением. Одной из причин, по которым она жутко не любила слушать, как рассказывают сны, было то, что их сюжеты привлекали ее внимание к борьбе, которая в ней и без того кипела непрестанно, а именно к схватке здравого рассудка с суеверием. В интеллектуальных дискуссиях она всегда выступала адептом всего научного и в то же время не могла не считать сны проявлениями чего-то мистически-необоримого.
Еще большую сложность всей ситуации придавал тот факт, что были у нее все же и другие дни, когда всякая возможность небесной кары ей представлялась крайне маловероятной. Всякий знак был добрым, каждый человек, предмет или обстоятельство распространяли вокруг себя неземную ауру благости. В такие дни, если она позволяла себе действовать сообразно с чувствами, Кит могла быть вполне счастлива. Однако с некоторых пор она уверовала в то, что такие дни (уже и сами по себе довольно редкие) даются ей всего лишь для того, чтобы потом застать врасплох, лишив способности правильно толковать предзнаменования. В результате приливы естественной эйфории все чаще стали у нее быстро перерождаться в нервную и слегка истерическую раздражительность. Разговаривая, она то и дело спохватывалась, пытаясь представить очередной выпад веселой шуткой, тогда как на самом деле высказывалась настолько ядовито, насколько может это делать человек в самом скверном расположении духа.