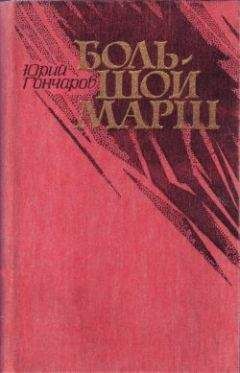1965 г.
Воронежская повесть, рассказанная Н. П. А.
Мое детство шло на Халютинской. Это было ее старое, отмененное название. В городе со дней революции многое называлось по-другому, на новый, революционный лад. Главная улица, Большая Дворянская, – проспектом Революции, бывший Кадетский плац – площадью Третьего Интернационала; Большая Московская, кончавшаяся заставой с двумя кирпичными башенками-столбами и переходившая в щебеночное шоссе на Москву, стала Плехановской. Одни из этих новых названий прижились прочно, никому бы, например, не пришло в голову назвать проспект Революции Большой Дворянской. А Кадетский плац городские старожилы по-прежнему называли плацем или даже Кадетским плацем, булыжный спуск возле громадного здания бывшей семинарии так и оставался Семинарской горой, Студенческая для большинства продолжала быть Грузовой, как звалась она до этого полвека, потому что по ней на косматых битюгах возили грузы со станции, Застава – Заставой, хотя трамвайные кондукторы уже много лет подряд громогласно объявляли: «Улица Донбасская!.. Остановка – Донбасская!» Но даже в разговоре совсем молодых людей, рожденных уже после Октября, слышалось: «Он живет возле Заставы… Это надо ехать на «пятерке» до Заставы…» По-старому продолжала зваться и наша Халютинская, и когда в наш район близ Петровского спуска и Чернавского моста приходил, разыскивая для себя нужное, кто-нибудь чужой и спрашивал Батуринскую, местные жители даже не сразу брали в толк, что́ человек ищет, понимали его, только когда выяснялось, что речь идет о Халютинской.
Я любила нашу улицу, она была неширокая, всегда тихая, даже не городского вида: немощеная, вся в короткой курчавой траве с белеющим куриным и гусиным пухом. На дальнем конце своем, что выходил к реке, она круто обрывалась; на телеге или автомашине там было не съехать, а нам, детворе, нравилось сбегать по уступам обрыва и взбираться наверх, для нас этот обрыв был настоящей горой. Боже мой, сколько на этом обрыве было получено царапин, ссадин, синяков и шишек, сколько расквашено носов, и все равно он был самым привлекательным местом для наших ребячьих игр!
Дом, в котором мы жили, был причудливый, совсем особый, не похожий ни на какие другие строения города. Он стоял не в «лице», как говорили наши уличные бабки, то есть – не в ряду со всеми остальными домами, а в глубине квартала, в саду с усыхающими яблонями, так что к нему можно было ходить и с Халютинской, и с Введенской, параллельной.
Сад представлял уже только остатки когда-то пышного и обширного сада. Был он тоже не простой, не обыкновенный, а с затеями. В разных концах его торчали невысокие пьедесталы из дикого камня от каких-то стоявших в нем некогда скульптурных фигур. В центре находился круглый фонтан. Украшавшая его мраморная скульптура сохранилась в сильно исковерканном виде, можно было не столько рассмотреть, сколько угадать, что это – маленький мальчик, отправившийся погулять и повстречавшийся с лягушкой. Склонив голову, мальчик с интересом и удивлением разглядывал у своих ног толстую, впервые им увиденную лягушку, а мраморная лягушка с таким же интересом и любопытством пучила на мальчика свои глаза. Из каменных стен фонтана торчали концы железных трубок, мальчика и лягушку когда-то кропил легкий прозрачный дождик. Но это устройство не действовало, фонтан я помню всегда сухим, наполненным вместо воды песком, в котором играли самые маленькие дети нашего дома.
Я до сих пор хорошо помню утро, когда мне заплели косички, завязали на концах голубые бантики, и, одетую в коричневое, специально сшитое платье, мама повела меня в первый класс, и в мое детство с этого дня вошла школа, большое красное здание недалеко от дома на Девиченской, или, по-новому, Сакко и Ванцетти. Здание было старое, царских времен, но просторное внутри, с такими высокими окнами, что если встать на подоконник, потребовалось бы еще два таких же моих роста, чтобы дотянуться до верхнего края. Три года я приходила в один и тот же класс, – я и мои сверстники росли, поднимались по школьным классным ступеням, но сам класс оставался тот же, – садилась за одну и ту же парту, такую знакомую и привычную, что она уже была для меня не школьным имуществом, а почти как моя собственная, – как что-нибудь из нашей домашней мебели.
В третьем классе мы уже носили красные галстуки. Школьные и домашние уроки, пионерские дела, дворовые игры занимали меня всю целиком и все мое время, с пробуждения и до сна, мне было не сосчитать друзей и подружек по школе, улице, дому, который был на редкость многолюдным, переполненным детворой. Но на самом главном и на самом большом для меня месте в эти мои годы были все-таки мои мама и папа, никакие мои дела, никакая моя суета не могли их заслонить. Папа – худощавый, спортивно-легкий, сероглазый, со светлой прядью волос на лбу, разбросанных так, как будто он всегда был в каком-то стремительном, неостанавливающемся движении навстречу ветру. Все его повадки были тоже такими – точно он все время куда-то стремительно несся. Мама была ниже отца на две головы, совсем небольшая, уже начавшая полнеть, но вся такая крепенькая, ладненькая, что просто мило было на нее смотреть, даже я чувствовала и понимала эту ее ладность, красоту ее сложения. У нее были черные южные глаза, блестящие черные волосы, гладко зачесанные назад, как бы обливающие смоляным лаком ее голову, собранные на затылке в тугой узел. Мне нравилось, когда она их распускала и расчесывала гребнем, я ждала эти моменты, чтобы погладить мамины волосы рукой, вновь ощутить их шелковистость и нежность, прижать их к своему лицу, вдохнуть их едва уловимый запах, похожий на запах полевых цветов. Мне очень хотелось, чтобы и у меня были такие же волосы, но природа поскупилась, не дала мне таких. Они у меня были темные, но не мамины. А вот глаза достались мне точно как у папы – серые, даже светло-голубые, в таких же желтоватых крапинках… Руки у мамы тоже всегда пахли, но совсем по-другому, папа говорил – «больницей». Мама была врачом. Еще не зная толком, что это такое, я говорила, что тоже буду врачом, тащила к себе мамины медицинские инструменты, трубочку для выслушивания больных, молоточек, которым ударяют по колену, они были для меня гораздо более привлекательными игрушками, чем мои куклы и жестяные кастрюлечки.
Таким же самым близким мне человеком, неразрывно соединенным в моем сознании с папой и мамой, была бабушка, хотя она жила не с нами, а отдельно, в своем одноэтажном домике на Верхней Стрелецкой, и только иногда приходила к нам в гости. Я всегда с радостью встречала ее приходы, это была настоящая бабушка, именно такая, какое существует о бабушках в народе представление: добрая и кроткая, вечно хлопочущая в заботах о своих близких, совсем не думающая о себе, как будто ей самой ничего не надо – ни еды, ни питья, ни одежды, горячо любящая своих внуков. Всегда и для всех у нее были припасены какие-нибудь гостинцы. Когда она приходила, я знала, в кармане ее кофты или юбки обязательно лежит для меня кусочек варенного на молоке сахара, который бабушка умела очень вкусно готовить, или завернутая в бумажку тянучка, или маковка, леденцовый петушок на палочке, купленные ею по дороге у уличных лотошников, что тогда торговали в городе почти на каждом углу. И я лезла к бабушке в карман с нетерпеливым желанием поскорее узнать, что же предназначено для меня в этот раз, и непременно что-нибудь находила.
Все называли ее бабушкой, в нашей семье, родственники, для меня она тоже была просто бабушка, ее имя и фамилию я чуть ли не впервые узнала уже только после всей трагедии сорок второго года, после нашего с мамой возвращения на развалины города, когда мы стали разыскивать бабушку, спрашивать про нее у всех, кто мог хоть что-либо знать, и когда, уже осенью сорок третьего, в «Коммуне» появились списки людей, расстрелянных немцами и откопанных в Песчаном логу, и в длинной колонке фамилий мама, ахнув, с побелевшим лицом увидела и прочла и ее имя: Евдокия Максимовна Ивахина…
Я назвала наш дом причудливым: он действительно был такой: низ – из грубого, нетесаного дикого камня, два верхних этажа – из красного, местами облитого глазурью, кирпича, несимметричный, с окнами на разных уровнях, узкими, как крепостные бойницы, и необыкновенно широкими, «итальянскими», в сложных, орнаментированных переплетах, – так что была просто мука, если разбивалось стекло и приходилось вставлять новое: стекольщики не могли, отказывались вырезать стекла нужной формы. Снаружи дома висело несколько балконов и было приделано несколько железных, изломанных короткими маршами лестниц, по которым страшно нравилось бегать дворовой детворе, потому что железные ступеньки певуче гремели и звенели под ногами. Под домом был обширный, с каменными сводами, вымощенный каменными плитами подвал; кончался дом остроконечной крышей, а на углу, обращенном к заречной стороне, подымалась восьмиугольная башня с площадкой и чугунным ограждением. На площадку можно было взобраться по внешней железной лесенке, но была и другая лестница, тоже железная, винтовая, изнутри дома, наглухо забитая жильцами; площадка им была не нужна, на ней по ее малости даже стираного белья нельзя было развесить, а еще какой-либо практической пользы в ней никто не видел. Про дом рассказывали, что до революции он принадлежал архитектору, который строил церкви и на этом разбогател. Он был человеком с фантазией, путешествовал по разным странам и дом выстроил по своему проекту, на свой причудливый вкус, таким, чтобы он напоминал ему виденное в его путешествиях. Оттого дом и получился как бы слепленным из кусочков всех эпох и стилей: кусочек старонемецкого, кусочек – венецианского, одна сторона – в мавританском стиле, другая – отзвук древних Афин. Даже подвал был не просто помещением для хранения капусты и картошки, а какое-то средневековое подземелье, в которое входят с факелами и которое полно пугающих загадок и тайн. Старые жители улицы, помнившие архитектора, его пышную рыжую бороду, поповскую гриву волос, рассыпанную по плечам, говорили, что восьмиугольную башню он возвел не случайно, затем, чтобы любоваться с нее рекой и заречьем, а в ясные летние ночи рассматривать луну и звезды в телескоп. Вероятно, это была правда, башня с ее наблюдательной площадкой, как пожарная каланча, высилась надо всей нижней частью города, надо всеми приречными улицами, с нее действительно открывалась широкая панорама на речную луговину, была видна вся дамба от Чернавского моста до Придачи и сама Придача – километрах в двух от города, зелень ее садов, крыши домишек; в летний зной все это зыбко дрожало в расплавленном струящемся воздухе, и, когда мы, дворовая детвора, мальчишки и девчонки, смотрели с архитекторовой башни, Придача казалась нам миражем, донесшимся видением тех далеких заманчивых стран, что были описаны и изображены в моей самой любимой книге о путешествиях капитана Кука.