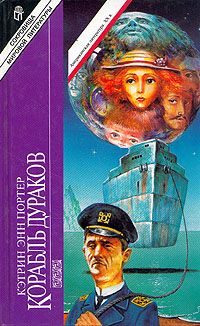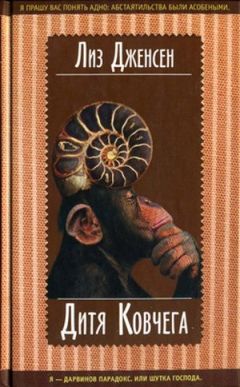Ознакомительная версия.
— Нет, сеньора, — с достоинством сказал ей накануне портье, — у нас тут всего лишь Мексика, но собак мы в комнаты не пускаем.
И эта нескладеха поцеловала пса в мокрый нос и только тогда отдала его слуге, который отвел животное на задний двор и привязал там на ночь. Бульдог Детка перенес это испытание с молчаливой угрюмой стойкостью, присущей всему его героическому племени, и ни на кого не затаил зла. А его хозяева сразу принялись рыться в огромной корзине с провизией, которую они повсюду таскали с собой.
Широким шагом взошла на веранду высокая тощая девица — голенастая, коротко стриженная, с крохотной головой-недомерком, болтающейся на длинной тощей шее, в зеленом платье, вяло болтающемся вокруг тощих икр; она пронзительным павлиньим голосом толковала что-то по-немецки своему спутнику — румяному коротышке с поросячьей физиономией. Рослый и словно развинченный в суставах человек, на удивленье большерукий и большеногий, с белобрысым ежиком над хмурым, наморщенным лбом прошагал было мимо веранды, словно не узнав ее, но тут же вернулся, сел в стороне от всех и вновь погрузился в раздумье. Хрупкий рыжий мальчик лет восьми задыхался и потел в ярко-оранжевом кожаном костюмчике мексиканского ковбоя, на зеленовато-бледном лице его резко выделялись веснушки цвета меди. Родители-немцы, болезненного вида папаша и унылая, раздражительная мамаша, подталкивали его, а мальчик упирался, извивался всем телом и тянул на одной ноте:
— Мама, пойдем, ну мам, ну пойдем…
— Куда пойдем? — визгливо спросила мать. — Чего ты хочешь? Говори толком. Мы едем в Германию, чего тебе еще надо?
— Пап, ну пойдем! — в отчаянии взмолился мальчик.
Родители переглянулись,
— О Господи, у меня голова лопается! — сказала мать.
Отец схватил мальчика за руку и потащил в глубь темного, как пещера, коридора.
— Уж эти туристы, — сказал портье официанту. — Напялили на ребенка кожаный костюм, в августе-то месяце, вырядили как чучело.
Мать услышала, отвернулась, покраснела, закусила губу, потом закрыла лицо руками и на минуту замерла.
— Кстати, насчет чучел — а это видал? — сказал официант и легонько махнул салфеткой в сторону молодой американки в темно-синих штанах и голубой рубашке сурового полотна; широкий кожаный пояс и синий узорчатый платок на шее довершали ее наряд — точную копию рабочей одежды мексиканских индейцев-горожан. Молодая женщина была без шляпы. Черные волосы ее, разделенные прямым пробором, свернуты на затылке узлом — прическа эта показалась бы старомодной в Нью-Йорке, но пока еще вполне подходила для Мексики. Спутник этой женщины, молодой американец, был в опрятном белом полотняном костюме и в самой обыкновенной панаме.
Понизив голос, но не слишком, портье отважился на убийственнейшее из всех известных ему оскорблений:
— Видно, яловая.
И отвернулся, со злорадством заметив, что американцы понимают по-испански. Молодая женщина напряглась, как струна, тонкое лицо ее спутника побелело, злыми глазами они уставились друг на друга.
— Говорил я тебе, ходи здесь в юбке, — сказал молодой человек. — Вечно делаешь по-своему.
— Тише, — устало, ровным голосом отозвалась молодая женщина. — Пожалуйста, тише. Я не могу переодеться, пока мы не сели на пароход.
По всей площади и прилегающим проулкам, между низкими стенами, покрытыми перепачканной, исклеванной пулями известкой, сновали четыре красивые испанки, смуглые, с гордо вскинутыми головами и привычной, профессиональной дерзостью во всей повадке; из-под тонких черных платьев, которые чересчур туго обтягивали их стройные бедра, неряшливо выглядывали оборки ярких нижних юбок, развеваясь вокруг изящных ножек. Испанки носились взад и вперед, бегали по лавкам, тесным кружком усаживались на веранде и ели фрукты, разбрасывая кожуру, и непрерывно трещали по-испански, будто ссорилась крикливая птичья стая. При них было четверо смуглых, гибких молодых людей: у всех четверых прилизанные черные волосы над узенькими лобиками, широкие плечи и тонкая талия, перехваченная широким поясом; и тут же двое детишек лет шести, мальчик и девочка, близнецы, с болезненно-желтыми, чересчур взрослыми лицами. Из всех путешественников только эта компания пошла накануне вечером на улицу поглядеть на фейерверк и принять участие в празднестве. Они криками приветствовали взлетающие ракеты, плясали друг с другом среди толпы, потом отошли немного в сторону и, щелкая кастаньетами, снова пустились плясать — хоту, малагуэнью, болеро. Вокруг собралась толпа, и под конец одна испанка стала обходить зрителей и собирать деньги, она обеими руками приподняла подол и подставляла его под монеты, громко шурша оборками нижней юбки.
Потребовался бы поистине титанический труд, чтобы навести в делах этой компании какой-то порядок. Они бродили бестолковой, полудикой ордой, кричали на детей, а дети никого не слушались и от всех получали подзатыльники, и все хватали неслухов за руку или за шиворот и волокли за собой. Испанки небрежно тащили какие-то бесформенные, разваливающиеся свертки и узлы, сверкали глазами, неистово раскачивали бедрами, их растрепанные волосы все сильней раскосмачивались, но они ни на миг не падали духом. Наконец вся компания взбежала на веранду отеля, сгрудилась за одним из столиков — и все стали колотить по нему кулаками и кричать на официанта, наперебой заказывая каждый свое, и дети храбро присоединились к общему шуму и гаму.
Скромная худощавая женщина, еще довольно молодая, одетая очень обыкновенно — в темно-синем полотняном платье и широкополой синей шляпе, которая наполовину скрывала ее черные волосы, миловидное личико и внимательные синие глаза, — не без отвращения посмотрела в сторону испанцев; потом приподняла рукав на правой руке и еще раз оглядела то место, где ее недавно ущипнула нищенка. Повыше локтя вздулась и отвердела опухоль и уже проступали багрово-синие пятна. Женщине хотелось кому-нибудь показать этот болезненный след, сказать легким тоном, словно и не о себе: «Дикость какая-то, просто не верится — неужели так бывает?» Но рядом никого не было, и она опустила смятый рукав. С утра, приняв холодную ванну, напившись горячего, хоть и премерзкого кофе и чувствуя себя чуть получше оттого, что удалось выспаться, она уже не в первый раз отправилась в Бюро выезда и виз. Нищенка сидела на земле, прислонясь спиной к стене, и ела горячий зеленый перец, прихватив его лепешкой; подтянутые к животу колени ее торчали под бесчисленными драными юбками. Заметив американку, она перестала есть, переложила лепешку с перцем в левую руку, неловко поднялась и, стремительно переступая тощими ногами, направилась к намеченной жертве; на темном, словно дубленом лице ее желтые глаза были точно нацеленные клинки.
— Подай поскорей Христа ради, — сказала она угрожающе и хлопнула иностранку по локтю; той и сейчас помнилась приятная дрожь справедливого негодования, с каким она, собрав все свои познания в испанском, ответила, что ничего подобного делать не намерена. И тогда нищенка, точно нападающий коршун, мигом ухватила когтистой лапой мякоть ее руки пониже плеча и ущипнула жестоко, с вывертом, впиваясь в кожу длинными, точно железными ногтями, — и тотчас кинулась наутек, только босые пятки замелькали. Да, это было как страшный сон. Такое просто не может случиться в обычной жизни, по крайней мере со мной. Она ссутулилась, отерла лицо платком и посмотрела на часы.
Толстый немец в пропыленном черном костюме и его толстуха жена о чем-то шептались, наклонясь друг к другу и согласно кивая головами. Потом, захватив свою корзинку с провизией и собаку, перешли площадь и уселись на другом конце скамьи, на которой сидел недвижимый индеец. Они развертывали промасленную бумагу и неторопливо поедали огромные белые бутерброды, по очереди запивая их из стаканчика-крышки большого термоса. Толстый белый пес сидел у их ног, доверчиво задрав морду, и, громко захлопывая пасть, ловил все новые куски. Они жевали и жевали важно, деловито, с достоинством, а маленький индеец на другом конце скамьи не шелохнулся, неслышное дыхание едва приподнимало его впалый живот. Немка хозяйственно завернула остатки еды и положила на скамью подле индейца. Он мельком глянул на сверток и опять отвернулся.
Немцы с бульдогом и корзинкой вернулись за свой столик на веранде и спросили бутылку пива и два стакана. Нищий калека вылез из-под дерева, принюхался и пополз на запах пищи. Приподнялся, обхватил сверток обернутыми кожей культяпками и сбросил наземь. Прислонился к скамье и стал есть прямо с земли, давясь и чавкая. Индеец не шевелился, смотрел в сторону.
Девушка в синих брюках протянула руку и погладила бульдога по голове.
— Славная у вас собака, — сказала она немке.
— О да, он очень хороший, мой бедненький Детка, — отозвалась та мягко, но словно бы нерешительно, не глядя в глаза незнакомке. По-английски она говорила почти без акцента. — Он такой терпеливый, я только иногда боюсь, может быть, он думает, что мы все это устроили ему в наказание.
Ознакомительная версия.