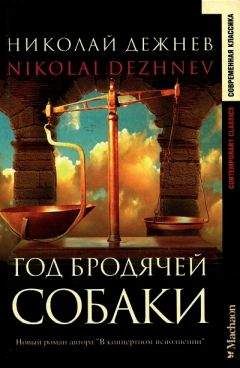Какой-то посторонний звук отвлек черного кардинала от чтения. Вежливо покашливая в кулак, рядом с его креслом переминался с ноги на ногу толстяк Ксафон. Как хороший служака, пользующийся, несмотря на низкий ранг, благоволением начальства, он мог себе позволить наглость привлечь высочайшее внимание.
— Экселенц! — Мелкий бес выгнул в поклоне спину, положил на стол перед Нергалем тонкую папку в яркой, цветастой обложке. — Возможно, вы захотите ознакомиться с более подробным материалом.
Начальник службы тайных операций небрежно листанул странички.
— Секретно?
— Ни в коей мере! Всего лишь описание одного из наиболее важных эпизодов из жизни интересующей вас особы без каких-либо выводов и оценок, — сладко улыбнулся Ксафон.
— Что ж! — Нергаль оттолкнул от себя папку так, что она проскользила по полировке стола прямо к секретарю комиссии. — Читайте вслух! Думаю, нам всем будет полезно ближе познакомиться с тем, чью судьбу предстоит решать.
Куркис поднялся на ноги, как делал это всегда, когда оглашал очередной документ, подчеркнуто аккуратно взял со стола бумаги.
— Эпизод датирован… — ответственный секретарь пристально вгляделся в текст, — вторым артемизием шестьдесят третьего года до рождества Христова. «К вечеру, — начал читать он, постепенно обретая нужные ритм и скорость, — со стороны Средиземного моря наползли темные облака. Гряда за грядой, как легионеры в строю, они надвигались с пугающей неумолимостью, сталкивались с обжигающим дыханием Аравии, пропитывались его зноем…»
…Давящая, обволакивающая духота повисла над Иерусалимом, придавила все живое к раскаленной, многострадальной земле. Временами тяжелые редкие капли слезами плакальщиц падали с неба, стучали по золоченой крыше храма, но дождь все не начинался, и не было людям облегчения, как не было конца их страданиям. Непривычная, напряженная тишина опустилась на город, так в скорбном молчании замирают люди не в силах принять и осознать выпавшие на их долю беды. Шум боя стих, и только изредка откуда-то из района старого рынка доносились истошные крики сумевших бежать оборонявшихся, там все еще продолжалась резня. Сам же огромный храмовый двор был залит кровью и завален трупами иудеев, легионеры добивали их хладнокровно, как животных на бойне. Окруженные со всех сторон, лишенные даже малейшего шанса на спасение, защитники храма дрались с поразительной стойкостью и мужеством, неприятно удивившими Помпея. Его прославленные в боях ветераны ни в чем им не уступали, но никогда, даже во дни великих побед, полководец не видел такого бесстрашия и презрения к смерти, с какими бросались на обнаженные мечи иудеи. Фанатики, думал он, вспоминая, как под градом камней и стрел их священники продолжали с тщанием и во всех подробностях отправлять обычные для такого времени суток богослужения. Они умирали тут же, у огромного, построенного рядом с подножием лестницы жертвенником, обагряя его собственной кровью. И это при том, с недоумением отмечал про себя Помпей, что сами же иудеи перебили больше собственных соплеменников, чем осаждавшие Иерусалим римляне. Даже имея у стен общего могущественного врага, они до последнего продолжали бороться за власть и, как результат, без боя открыли нападавшим ворота. Город пал, но на штурм его цитадели, в которую был превращен храмовый комплекс, ушло три долгих месяца. От воспоминания об этом Помпей нахмурился. Такая задержка была непозволительной роскошью. Его ждал Рим, только там по-настоящему решались судьбы мира. Там в борьбе за единоличную власть сталкивались противоборствующие силы, в то время как он прозябал в забытой Богом Иудее… Забытой Богом! Помпей усмехнулся. А ведь, действительно, выходило так, что иудейский Бог забыл свой народ, предал его в руки римлян. В любом случае, возвращался мыслями в Рим полководец: если он хочет добиться господствующего положения, если придется подавлять упорство взбалмошного Сената, положиться он может лишь на собственную силу, какую составляют его прославленные в боях легионы. Помпей знал, что считать так у него есть все основания: солдаты его любили, и было за что. Воюя в далеких провинциях, он всегда во главу угла ставил безопасность своих легионов и часто готов был отказаться от скорой победы, если она доставалась ему слишком дорогой ценой. И по Иудее он шел расчетливо и планомерно, с убийственной неотвратимостью сметая все на своем пути, и, если уж приходилось осаждать город, не спешил очертя голову посылать легионеров на штурм его хорошо укрепленных стен. Опыт полководца и умение прислушиваться к мнению своих советников позволяли Помпею обходиться малой кровью… малой кровью римских легионов, потому что кровь местного населения в расчет никто не принимал. Жестокость иудеев друг к другу зачастую была настолько велика, что население принимало иностранных завоевателей как собственных спасителей. Эта удивлявшая Помпея жестокость орудовавших в осажденных городах банд, помноженная на голод, предательство и увещевания перебежчиков, и приносили римлянам легкую победу. Впрочем, ценили легионеры и личное мужество, и храбрость своего полководца, сражавшегося с ними на равных, плечом к плечу. Обычно несколько медлительный, в бою Помпей преображался: фехтовал на удивление ловко, с чрезвычайной быстротой и эффективностью, но действовал при этом осмотрительно, решения принимал выверенные, холодной головой. Близость полководца придавала солдатам необъяснимые восторг и упоение, так что многие из них почли бы за высокую честь погибнуть на глазах Помпея, совершая геройский поступок. Не последнюю роль во всеобщей любви играла и та щедрость, с которой он награждал отличившихся, хотя случалось ему и наказывать за трусость целые манипулы, посылая провинившихся под топор палача.
Славен был Помпей Великий и в столице, где триумфатор пользовался репутацией спасителя отечества. Не кто иной, как он подавил восстание Сертория в Испании, этой, как считалось, могиле легионов. Помпей же утопил в крови сподвижников Спартака и — что принесло ему особую славу — всего за сорок дней очистил Средиземное море от терроризировавших прибрежные города пиратов. Для проведения кампании Сенат предоставил ему исключительное право единолично распоряжаться огромным флотом на просторах от Геркулесовых столбов до Сирии. Под его водительство было поставлено более ста двадцати тысяч солдат отборной пехоты. Если к этому прибавить учиненный Помпеем разгром понтийского царя Митридата Евпатора и успешную попытку поставить на колени перед Римом армянского правителя Тиграна Второго, то у многих в столице были все основания бояться снискавшего себе славу полководца и его претензий на единоличную власть. Правда, злые языки поговаривали, что Серторий был предательски убит, Спартака разбил Красс, а Митридата — Лукулл, но стоит ли повторять, что у тех, кому сопутствует удача, всегда находятся завистники?.. Тем не менее, слухи эти и пересуды не могли не доходить до ушей Помпея, и всем своим существом он чувствовал, что наступило время срочно вернуться в Рим. Да, хмурился полководец, потраченные на осаду храма три месяца — роскошь непозволительная, и наверстать упущенное ему еще только предстоит!
Лавируя между телами убитых, Помпей пересек двор храма. Следом за ним по пятам шли два гиганта-телохранителя в полном тяжелом вооружении. С тем же недовольным выражением лица полководец осмотрел залитый кровью жертвенник. От остальной площади его отгораживал невысокий ажурный забор из цветного камня, за который во время церемоний запрещалось заходить молящимся. Теперь же, как бы переломившись в поясе пополам, на нем в неестественных позах повисли тела двух священнослужителей — лица их потемнели от крови и были страшны. Помпей перевел взгляд на возвышавшееся над ним величественное здание храма. Покрытое белым мрамором и обильно украшенное золотом, издали, в солнечную погоду, оно казалось сложенным из чистого снега, на его купол было невозможно смотреть. От жертвенника к передним, главным воротам храма из бесценной каринфской меди вела лестница в двенадцать ступеней. Поскольку ворота эти не имели дверей, снизу, с того места, где стоял полководец, казалось что они поднимаются прямо в небо. Впечатление было сильным и, очевидно, хорошо продуманным. Тут же, на столбе, он прочел начертанную по-гречески надпись, гласившую, что никто, кроме священников, не имеет права вступать в приделы святилища. Она вызвала у Помпея подобие улыбки. Уж кто-кто, а Гней Помпей Великий точно знал, что победитель имеет право на все, чего только пожелает. И тут же, как если бы он пристально следил за выражением лица полководца, из-за спины одного из легионеров вывернулся, засеменил к Помпею маленький сутулый человечек. Мелко переставляя ножками, он приблизился, задрал к небу лицо. Некрасивое, если не сказать уродливое, оно было удивительно подвижным. В жизни встречаются люди, чья внешность вызывает у окружающих жалость, но лишь немногие из них заставляют тут же забыть об этом чувстве, стоит им заговорить. Неизвестно как, лица несчастных преображаются, и уже не изощренная неправильность черт, а их окрашенная чувством гармоничность и светящийся в глазах глубокий ум заставляют забыть о первом, явно превратном впечатлении. Впрочем, как и задуматься о том, что есть красота. Именно таким был Захария Версавий, иудей из Иерусалима, по своей воле пошедший служить завоевателям и, в подражание римским вольноотпущенникам, принявший имя одного из аристократов далекой метрополии. Постепенно и незаметно, но на удивление быстро Версавий занял место в ближайшем окружении полководца, стал кем-то вроде советника и переводчика главнокомандующего римской армией, и если не другом, то тем человеком, с кем Помпей охотнее всего беседовал на темы, далекие от военных. Впрочем, должность Захарии никак не называлась, что не умаляло ее статус и значение.