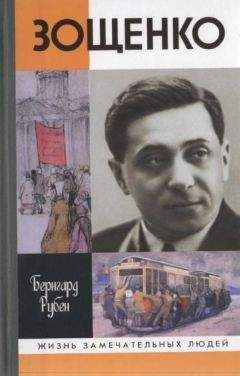Холодный зев этого дула он чувствовал и теперь. Ему предлагалась роскошная женщина, и это не только страшило, но и, хуже, недостаточно волновало. Отчасти — из-за неспособности овладеть ситуацией, но, главным образом, как он подозревал уже тогда, потому, что он еще не распробовал как следует знаменитый орешек чувственности, с его подвешенной в полой скорлупе сердцевиной, и обращал чрезмерное внимание на лицо и другие внешние обстоятельства.
Неопределенность родила несобытие. В шесть утра начинает ходить транспорт, и они с облегчением приняли это как водораздел, как знак, что все. Провожая ее к метро, он спохватился, какой он идиот, и даже, окончательно потеряв лицо, предложил вернуться, в ответ на что услышал: «Вам достаточно свистнуть, и я приеду». Незаслуженная формула преданности как-то неплотно прилегала к ее облику, и он опять не мог отделаться от привкуса фальши.
Короче, она уехала и исчезла с его горизонта, если не считать окольных расспросов и переливания полученных данных из пустого в порожнее. Прошло полгода, и не выдержав постылого бремени свободы, он женился на женщине, которую издали знал не первый год. Это к тому, что свадьба не была облечена особой сакральностью, и жена нашла в себе силы посмеяться над телеграммой, пришедшей наутро: «ПОМНЮ И ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ЭТУ НОЧЬ БЛАГОДАРЮ ВАС ЦЕЛУЮ ЦЕЛУЮ ЦЕЛУЮ НИНА».
С тех пор прошло много лет, почти что жизней, но, надо отдать ей должное, Нина обеспечила себе незабвенность высшей пробы. Свой сюжет она вылепила из бездействия партнера и запечатала пророческой концовкой. Чего же в нем в свое время не хватало? И что придавало ему законченность теперь? Почему и в каком качестве вспомнил он его по эту сторону провала, на тихоокеанском берегу?
В утреннем выходе к метро нет ни моря, ни велосипеда, но они витают где-то в его повествовательных окрестностях, и профессор может приятным усилием памяти вызвать другую Нину, с которой, не решившись познакомиться в Университете, он столкнулся в Коктебеле. Ничего, как говорится, не было, хотя она явно ему симпатизировала; каждый был с кем-то своим. Но однажды в несусветную рань они случайно сошлись на ветреном пляже на почве общей любви к плаванию. Несмотря на маленький рост и сиплый голос, она оказалась прекрасной пловчихой, и они долго плыли на боку, лицом друг к другу, равномерными сильными толчками, разговаривая в том же ритме. Они заплыли далеко, и вместе с ними, казалось, перемещается пустое пространство, очерченное их телами, охваченное взмахами рук и перевитое репликами диалога. (Ни с кем он больше никогда так не плавал и лишь изредка достигал чего-то подобного в сексе; важную роль тут, как будто, играло дыхание.) Это был танец и в то же время текст, обещание, которого, кстати, не потребовалось держать. Впрочем, чего не навеет море в юности, да и не только в юности, ибо, как догадывается, наконец, профессор, именно запах ветра на калифорнийском пляже и расшевелил его память, а забракованную велосипедную мизансцену можно, если уж на то пошло, считать поблекшей копией того разговора наплаву. Разговора, в котором ничего не было сказано, — он разошелся, как круги на воде, и сам заплыв канул было в неизвестность, из которой теперь едва проступал, поднятый на поверхность с помощью искусной сети ассоциаций. (Тут вполне в духе профессора будет задуматься о роли в этой сети самого имени Нина, с его двойным нажимом на отрицательное «н», т. е. как бы имени отрицательного par excellence, отрицательного и, значит, нарицательного, а не собственного, и таким образом являющего идеальную эмблему негативного обладания, собственности ни на что.)
Но сеть можно закинуть и глубже, и тогда где-то на дне плеснет хвостом память о первой Нине, с которой у него была романтическая любовь на заре туманной юности. Заря была замешана там самым непосредственным образом, так как Нина готовилась на даче в институт и была свободна только до завтрака и после ужина. Подъехав в первый раз на рассвете к ее окну, он увидел за стеклом записку: «Окно открыто потяни за раму». (Не бог весть какой текст, но в свете последующего в него, пожалуй, можно вчитать все, что надо.) Она вылезла, и они на велосипедах поехали в лес. Так они ездили каждое утро, и тоже ничего не было, так сказать, еще ничего, Дафнис и Хлоя. Они целовались, он постепенно довел дело до того, что лежал на ней, эрекция волновала их, но это было и все. Она его не останавливала, а он больше ничего не пробовал. Вечером он приезжал еще раз и пил чай с ее родственниками. (Нинина тетя Оля была моложе мужа, и говорили, что она изменяет ему с Г., хромым владельцем дачи; у нее были блестящие глаза и неизвестно кому адресованная улыбка, иной раз задерживавшаяся и на нем, но, увы, аналогия с античным романом, тогда еще не читанным, осталась неполной.) Потом он мчался домой, чтобы успеть к часу, установленному родителями, вновь и вновь настигая свою тень, которая возникала на кустах вдоль шоссе в свете обгонявших машин. Эти велопробеги были полны пустотой ожиданий, ждущих исполнения, и теперь она вновь охватила его.
Что же получается? Ветер надежд звал его к грядущим далям, и вот, здесь, в будущем, на самом дальнем из берегов, лучшее, что у него есть, это память об ощущении манящего бриза и велосипедной скорости? Тем более, что вспоминаемые факты оказываются фантомами, сотканными из пробелов, отрицаний и несвершений. Допустим, это-то он знал и тогда, почему и полагал главную ценность не в том, что делалось, а в том, что говорилось и как словесно подытоживалось. Недаром его так и подмывало объяснить непонятливым технарям, что на их внимание он претендует именно в качестве Лингвиста, Инженера Человеческих Слов, но он чувствовал, что тем самым нарушил бы некое повествовательное табу, и, к счастью, сдерживался.
Веру в опечатывающую силу слова он разделял со многими из своего поколения, и потому было бы только уместно, если бы, выехав за границу, в пост-реальность, он узнал, что и на самые последние печати можно посмотреть откуда-то еще более извне. Первый урок в этом направлении ему мог бы дать, например, тот английский коллега, который после его доклада о структуре афоризма, объяснял ему, чем этот жанр привлекателен для рационалистов типа Рассела (и, подразумевалось, пытающегося мета-возвыситься над ним профессора). «Афоризм, — с подозрительной, впрочем, чеканностью сформулировал британец, — это первое и последнее слово, открывающее и поспешно закрывающее дискуссию, боящееся и потому не допускающее возражений». Да, именно за эту игрушечную итоговость так ценил он телеграфный росчерк Нины О., и на нее всегда ориентировал свой рассказ, в чем, теперь уже можно сказать прямо, и крылся просчет.
Текст телеграммы (и полуобмен репликами с Гариком Ш.) остался тем же и претерпел изменения. Он, как губка, вобрал огромные пространственные и временные пустоты, через которые только и можно всегда помнить, поглотил холодящую замкнутость велосипедных маршрутов вдоль солнечных пляжей и серию бегств из стран, дружб и профессий, постепенно лишившую предвкушение, недоступность и самый страх их тревожного ореола и потому, как бы с обратной стороны, описав полный круг, вернувшую слову его магическую власть. Рассказать, назвать, на худой конец, процитировать — не значит ли дать жизни еще один шанс?
Впрочем, профессору З. не обязательно осознавать все это. Последний раз, что мы его видим, пусть он, засыпая, тасует свою колоду реплик и, держа извилистый курс между Сциллой подкатывающей к глазам ностальгии и Харибдой сухого эстетизирования, на ходу выкладывает очередной коллаж («Мне не спится. — Достаточно свистнуть, окно открыто. — Влюблен в проститутку? Какие упадочные настроения! — Постаре-ел. — Благодарю Вас, всегда буду помнить… — Первое и последнее слово»), то упруго педалируя неожиданные сцепления, то отдаваясь их свободному ходу.
Ему повезло поставить машину прямо напротив их японского ресторанчика, и он медленно, чтобы не расплескать многодневной мигрени, переходил бульвар Санта Моника, когда заметил направлявшуюся ему навстречу высокую блондинку. Согнав с лица гримасу боли, он принял бодрый вид, готовясь отразить ее приветливое безразличие и в то же время получше рассмотреть ее. Особенно хороши были голубоватые джинсы в дырках, образовавших правильный узор, сквозь который, как сквозь кружево, угадывалась кожа. Они почти поравнялись, когда у нее подвернулся каблук; она неловко припала на одну ногу и как бы оттуда, снизу, посмотрела на него с извиняющейся улыбкой, которая вызвала его ответную, вероятнее всего, дурацкую. Тем временем она с вновь обретенной уверенностью прошла мимо (напоследок мелькнула большая горизонтальная дырка под мягко перекатывавшимся правым полушарием), села в машину, запаркованную, как оказалось, прямо перед его, и укатила. Дейвид вошел в ресторан, пробрался к их обычному столику в закутке для некурящих и стал ждать Хильду.