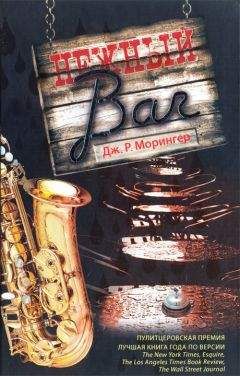— Теперь скажите, — спросила девушка, — что вам больше всего нравится в городе, где вы живете?
— Что тебе больше всего нравится в Манхассете? — перевел я.
Дедушка тщательно обдумывал вопрос, как будто у него орали интервью для «Таймс».
— Близость к Манхэттену, — ответил он.
Я передал его ответ девушке.
— Прекрасно, — сказала она. — И последний вопрос, каков ваш годовой доход?
— Какой твой годовой доход? — перевел я.
— Повесь трубку.
— Но…
— Повесь трубку.
Я положил трубку на рычаг.
Дедушка сидел молча, закрыв глаза, а я стоял перед ним, потирая руки, — всегда так делал, когда не знал, что сказать.
— Что такое «близость»? — спросил я.
Дед встал. Сунув руки в карманы, забренчал мелочью.
— Соседство, — сказал он. — Напри… напри… например, у меня слишком большая близость с моей семьей.
И рассмеялся. Сначала он фыркнул, потом раздалось хриплое «ха-ха», которое рассмешило и меня. Мы оба смеялись, закатываясь, пока дедушкин смех не превратился в приступ кашля. Дед вынул носовой платок из кармана и промокнул им мокроту, потом потрепал меня по голове и ушел.
После этого короткого инцидента я почувствовал новую эмоциональную близость с дедушкой. Мне стали приходить в голову идеи, как завоевать его расположение. Может быть, стоит не замечать его недостатков, сосредоточиться на его положительных качествах, какие бы они ни были? Я написал стихотворение о нем, которое помпезно преподнес ему однажды утром в ванной. Помазком из бобровой шерсти дедушка намазывал на щеки мыльную пену, чтобы побриться, и был похож на гигантский гриб. Прочитав стихотворение, он вернул его мне и повернулся к своему отражению в зеркале. «Спасибо за ре… ре… рекламу», — сказал он.
Потом я стал испытывать душевные муки. Не будет ли дружба с дедушкой предательством по отношению к маме? Я сообразил, что мне нужно получить ее разрешение, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, поэтому перед сном решил все у нее выведать и попросил еще раз рассказать мне, почему мы ненавидим дедушку. Она подоткнула мне под подбородок уменьшившееся «спасительное» одеяло и начала старательно подбирать слова. Мы не ненавидим дедушку, объяснила мама. На самом деле она надеется, что я смогу найти способ поладить с ним, пока мы живем под его крышей. Я должен продолжать общаться с дедушкой, сказала она, даже если он не отвечает. И мне не следует обращать внимание на то, что сама она с ним не разговаривает.
— Но почему ты с ним не разговариваешь? — спросил я. — Почему ты так огорчаешься всякий раз, когда смотришь на него?
Она бросила взгляд на отходящие от стены обои.
— Потому что дедушка — настоящий Скрудж, и это касается не только денег.
Дедушка копит в себе любовь, сказала мама, как будто боится растратить ее. Он не уделял внимания ни ей, ни тете Рут, ни дяде Чарли, когда они росли, не дарил им любви. Мама рассказала мне о семейной поездке на пляж, когда ей было пять лет. Наблюдая, как ласково отец ее двоюродной сестры Шарлин играет со своими детьми, мама попросила дедушку посадить ее на плечи и искупаться вместе с ней. Он посадил ее и отнес в воду, и когда они были уже далеко от берега, мама испугалась и стала умолять отпустить ее. И дедушка бросил ее в воду. Мама погрузилась чуть ли не на самое дно и наглоталась морской воды. С трудом выплыв наверх, судорожно вдыхая воздух, она увидела дедушку, который… смеялся. «Ты же хотела, чтобы я тебя отпустил», — сказал он, не замечая слез дочери. Когда девочка, шатаясь, вышла из воды, у нее возникло не по годам взрослое убеждение: ее отец — нехороший человек. С пониманием этого, сказала она, пришло облегчение. Она почувствовала себя независимой. Я спросил ее, что означает «независимый».
— Свободный, — объяснила мама. Она еще раз взглянула на отстающие от стены обои и повторила ласковей: — Свободный.
Но был момент, призналась она, который ранил еще больнее. Дедушка запретил маме и тете Рут учиться в университете. Это произошло в то время, когда не существовало студенческих ссуд или финансовой помощи, поэтому сестры никак не могли перехитрить отца. Этот удар повлиял на траекторию маминой жизни гораздо значительнее, чем пренебрежение дедушки. Она так рвалась учиться в университете, готовилась к захватывающей карьере, но дедушка не дал ей ни единого шанса. Девушки должны становиться женами и матерями, заявил он, а жены и матери университеты не заканчивают.
— Поэтому ты получишь образование, которое не получила я, — сказала мама. — Гарвард или Йель, мой мальчик. Гарвард или Йель.
Скандальное заявление из уст женщины, зарабатывавшей двадцать долларов в день. И это было еще не все. После университета я должен поступить в юридическую школу. Я не знал, что такое «юридическая», но звучало это ужасно скучно, и я попытался возражать.
— Нет, нет. Ты станешь адвокатом. Тогда я смогу нанять тебя, чтобы отсудить алименты у твоего отца. Вот. — Мама улыбалась, но было непохоже, что она шутит.
Я задумался о будущем. Когда я стану адвокатом, мама, может быть, осуществит давнюю мечту об учебе в университете. Я так хотел, чтобы у нее это получилось. Если для этого нужно стать адвокатом, я стану. А пока я не буду дружить с дедушкой.
Я лег на бок, отвернулся от мамы и пообещал ей, что с первой же своей адвокатской зарплаты я отправлю ее в университет. Я услышал судорожный вдох, как будто она пыталась всплыть со дна океана, а потом мама поцеловала меня в затылок.
За несколько дней до моего восьмилетия в дверь дедушкиного дома постучали, и я услышал Голос из уст человека, стоящего в проходе. За спиной человека было солнце. Оно светило прямо мне в глаза, поэтому у меня никак не получалось разглядеть лицо гостя. Я видел лишь очертания его корпуса: массивный слепок мускулов в обтягивающей белой футболке на кривых ногах. Голос был гигантом.
— Обними своего отца, — потребовал Голос.
Я потянулся, пытаясь обвить его руками, но плечи гостя оказались слишком широкими. Это было все равно что обнимать гараж.
— Это не объятие, — сказал Голос. — Обними отца как следует.
Я встал на цыпочки и прижал его к себе.
— Сильнее!
Я не мог обнять его сильнее. Я ненавидел себя за то, что был таким слабым. Раз я не мог достаточно крепко обнять отца — он больше не придет.
Обсудив что-то в стороне с моей матерью, которая все это время бросала на меня нервные взгляды, отец сказал, что отвезет меня в город, чтобы познакомить со своей семьей. По дороге он развлекал меня, пародируя разные наречия. Очевидно, Голос был не единственным его голосом. Кроме того, что он когда-то работал комиком, он однажды выступал и в качестве «пародиста» — это красивое слово было новым для меня. Отец показал мне, что это такое. Он превратился в нацистского коменданта, потом во французского повара. Потом стал убийцей-мафиози, затем английским дворецким. Резко меняя голоса, отец напоминал радиоприемник, если его быстро переключать туда-сюда, — это нервировало меня и в то же время смешило.
— Ну, что ж, — сказал он, закуривая сигарету, — тебе нравится жить в дедушкином доме?
— Да, — сказал я. — То есть нет.
— Когда как?
— Да.
— Твой дедушка — хороший человек. Немного не от мира сего, но мне он нравится.
Я не знал, что ответить.
— А что плохого в дедушкином доме? — спросил отец.
— Маме здесь грустно.
— А что хорошего?
— Близость к маме.
Отец тряхнул головой, затянулся сигаретой и устремил взгляд вдаль.
— Твоя мать говорит, что ты часто слушаешь своего старика по радио.
— Да.
— И что ты думаешь?
— Ты смешной.
— Хочешь стать диск-жокеем, когда вырастешь?
— Я буду адвокатом.
— Адвокатом? Господи Иисусе, почему именно адвокатом?
Я не ответил. Он выдохнул облачко дыма на ветровое стекло, и мы вместе наблюдали, как оно поднялось по стеклу, а потом соскользнуло вниз, как волна.
У меня остались размытые воспоминания об отце. Я слишком нервничал, потому толком не рассмотрел его. Меня завораживал его голос. К тому же я сосредоточился на речи, которую собирался произнести. Я хотел потребовать у отца денег. Если бы я мог найти идеальные слова, если бы у меня получилось правильно их произнести, я вернулся бы к маме с пачкой денег, мы смогли бы сбежать из дедушкиного дома и ей больше никогда не пришлось бы петь от злости или теребить клавиши калькулятора. Я мысленно репетировал, делая глубокие вдохи и пытаясь набраться решимости. Это было как прыжок с вышки в общественном бассейне. Закрыв глаза, я сказал себе: «Раз. Два. Три».
Я не смог. Не хотел говорить нечто такое, от чего Голос исчезнет снова. Вместо этого я уставился в окно — на трущобы, винные магазины, груды мусора вдоль дороги. «Должно быть, мы уже далеко от Манхассета», — думал я, задаваясь вопросом, что я буду делать, если отец увезет меня и никогда не вернет назад. Я чувствовал себя виноватым оттого, что эта мысль вызвала у меня прилив восторга.