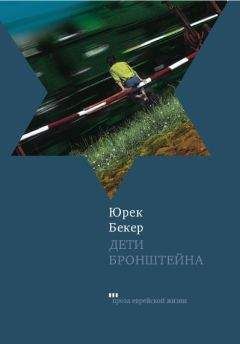Отец терпеть не мог, что его считали жертвой. Эту тему мы вообще не обсуждали, но некоторые его высказывания не позволяют сделать иного вывода. Например, я помню их ссору с Гордоном Квартом, когда он обзывал Кварта попрошайкой: тот пришел с сообщением, что официально признанные жертвы фашизма могут не платить за радиоточку, а отец впал в такую ярость, что мы оба удивились. Лет в одиннадцать-двенадцать я был очень впечатлителен, я и теперь помню, как во время ссоры все мои симпатии постепенно перешли от Кварта к отцу. Тот упрекал Кварта в отсутствии чутья на бестактность, кричал. Ясно как божий день, эта мера — чистое оскорбление, а тот, дурак, считает ее благодеянием. «Делают из тебя попрошайку, а ты еще и спасибо говоришь!» А когда Гордон Кварт все-таки решил воспользоваться льготой, они разругались на несколько недель.
— Не пойму, чего вы так волнуетесь, — говорю я. — Разумеется, меня приняли.
— Тебя приняли?
— А вы сомневались?
Несколько секунд я один продолжал жевать. В глазах Рахели блеснула слезинка — о, какое преувеличение, счастье выглядит совсем по-иному. Но для Хуго Лепшица инцидент еще не исчерпан.
— Объясни, пожалуйста, зачем ты заставил нас дергаться?
Вопрос прозвучал так, будто Лепшиц повторил его в десятый раз.
Рахель примирительно коснулась его руки:
— Ну, извини, ему просто приятно, что мы волнуемся. Не будь к нему строг, раз все так хорошо закончилось.
— Я вижу это по-другому, — сказал Лепшиц.
— Как же?
— Он дал нам понять, что его проблемы — не наше собачье дело.
— Я тебя умоляю!
— Более того, — продолжал Лепшиц, — он хочет показать, что наш интерес ему в тягость. Мол, пусть не воображают, будто заслужили мое доверие.
— Боже упаси, Хуго, что ты говоришь!
Итак, Лепшиц после долгого молчания дал себе наконец волю. Рахель тоже вроде чует неладное и была бы счастлива, сумей я опровергнуть его упреки. Кивает мне, словно призывая скорее уладить недоразумение. Доставлю ей это удовольствие, хотя Лепшиц прав и для его выводов особой проницательности не требуется, надо просто поверить своим глазам. А мне надо срочно убедить их в другом, я ведь их должник, и не по злому умыслу они взяли меня к себе.
И я нагло заявляю Лепшицу:
— Все неправда, что ты говоришь!
— Да? И в чем же ошибка?
— Я не упомянул о письме только потому, что не считаю его таким уж важным.
— Это письмо ты не считаешь важным?
— Ну вот, видишь! — с облегчением воскликнула Рахель, будто я разбил все подозрения в прах. Но Лепшица переубедить непросто, он покачал головой так мелко и быстро, что, казалось, затрясся. Кусок мацы, который он смазывал маслом, раскрошился.
— Вам странно, что кто-то не рад, если его приняли в университет?
— Да, странно, — подтвердил Лепшиц. — Зачем же ты подавал документы?
— Ну, не приняли бы меня — экая трагедия.
— Блестящее объяснение.
— Слушай, оставь его в покое, — вмешалась Рахель. — А ты сделай милость, дай мне прочитать письмо.
Я пошел в свою комнату за письмом. Все преступление Хуго и Рахели Лепшиц состоит в том, что они такие, какие есть. Сколько же можно ставить им в вину, что год назад они верили: я со своим приличным наследством — лучшая партия для их дочери. Мы все в это верили. Я вернулся и протянул Рахели письмо.
Пока она читала, Лепшиц обратился ко мне:
— Ответь мне на один вопрос: если тебе безразлично решение, то отчего ты каждый день караулишь почтальона?
Прочь отсюда, никаких сомнений, комната нужна мне как можно скорее. Похоже, я покраснел под его твердым, испытующим взглядом, такого я еще не видел. И к собственному изумлению, сказал:
— Нет, не каждый день. Иногда проверяю ящик, потому что жду действительно важного письма.
— От кого?
Рахель наконец дочитала. К разговору она не прислушивалась и простодушно подсунула письмо Лепшицу, чтобы он тоже чуточку порадовался. Но он и не подумал, наоборот, сдвинул в сторону бумажонку и устремил взгляд на беззвучного оратора, принимая все более серьезный вид, словно ему удается читать по губам. Рахель делала мне знаки рукой, успокаивала, мол, все образуется. Затем свернула листок и положила рядом с моей тарелкой.
А я жевал и жевал. С некоторых пор я владею искусством не думать ни о чем и в голове ощущаю тогда лишь легкий зуд, прикрывающий мозг — так я себе представляю — защитным слоем, чтобы уберечь от работы. На слова, сказанные обычным тоном, я не реагирую, лучше меня толкнуть, если надо. Я жевал и отрабатывал свое мастерство.
Вдруг сквозь защитный слой пробился легкий вскрик Рахели. Она зажала рот рукой, что такое? Лепшиц переключился на другой канал, а там Вилли Брандт как раз подал в отставку, вот она и вскрикнула.
Стряхнув защитный слой, я услышал, как ругаются Хуго и Рахель Лепшиц: она возмущена, дескать, могли уж наши люди пощадить такого разумного человека, а он убежден, мол, шпионаж для любой страны обычное дело, и только дамочки с интеллектом домохозяйки находят здесь повод для сострадания. Она, конечно, возражала, но каким образом — не знаю, я взял свой зеленый конверт и почти незаметно смылся.
***
В нерешительности стоял я возле бассейна. Вдруг мне стало страшно идти домой, где отец сидит на кухне, прихлебывает из блюдечка горячий чай и читает газету «Нойес Дойчланд». Но испуг брал меня и при мысли о том, что придется от него таиться или, хуже того, косить под дурачка и вести себя как обычно. Атаковать надо мне, но каким образом? Если я, не придумав ничего получше, выдвину обвинение, что на даче они творят несправедливость, то полный привет.
Я поехал к сестре Элле в лечебницу, вот оно, решение. Элла — единственный человек, с которым я могу откровенно поговорить о вчерашних событиях; поразительно, как я раньше о ней не подумал. В хорошие дни она высказывается столь умно, что диву даешься, отчего не все остальные, а как раз она сидит в психушке. Ей не соврешь, от нее ничего не скроешь, смысла нет: или она видит тебя насквозь с непостижимой точностью, или сам чувствуешь себя дрянью. Короче, если хочется что-нибудь соврать или скрыть, то лучше к ней вовсе не ездить. Зато в другие дни она ни на что не реагирует, только кивает и улыбается, как мамаша, которая вроде бы прислушивается к лепету ребенка, а у самой мозги плавятся от забот.
Сторож с огромной головой приветствовал меня по-военному, мы знакомы лет сто. Однажды Элла повстречалась нам на дороге далеко от лечебницы, и отец устроил ему выволочку: зачем тот сидит в будке, если кто угодно может выйти за ворота?! С тех пор сторож пользуется любой возможностью доказать, что против меня, в отличие от отца, он ничего не имеет. Следует добавить, что отец часто бывал несправедлив и груб с теми, кому за пятьдесят.
Лечебница — серое одноэтажное строение — похожа на какую-то времянку. Сколько я помню, вокруг всегда высились груды кирпича и горы цемента, словно строители только и ждут, когда здание освободится и они доведут его до ума. Внутри же, наоборот, лечебница обустроена полностью, хотя и очень бедно. Зато окружающий ее парк — богатый и дикий.
Я вошел в комнату дежурной медсестры, на чьей двери висела соответствующая табличка, мы поздоровались по имени. Объяснений, зачем я явился, не требовалось, и я, как всегда, двинулся в комнату для посетителей, куда мне приведут Эллу. Нам разрешалось также гулять по парку.
Однако на сей раз сестра вернулась не с Эллой, а с врачом, которого я раньше никогда не видел. Тот спросил:
— Вы ее брат?
Я кивнул, он пожал мне руку. Что-то не в порядке, это уж ясно. В другом конце комнаты два пациента играли в уголки, один нарочито хохотал, радуясь, как видно, глупости своего противника. Визг и взрывы хохота — для этого места звуки привычные, постепенно и я научился не выказывать испуг. Врач сказал, что сегодня мне не удастся поговорить с Эллой. Я всяко умолял его дать разрешение, мне срочно нужен совет, произошло чрезвычайное событие… Но он ответил:
— Раз так — тем более нельзя.
Мне льстило, что врач обращается со мной, как со взрослым, не жалея времени. Что до свидания с сестрой, он вроде бы последнее слово еще не сказал. Я еще во время прежних приходов заметил, что за врачебными решениями нередко скрывается лишь беспомощность. Тем не менее распоряжаются тут они, независимо от степени уверенности в своей правоте.
Он объяснил, что Элле пришлось дать успокоительное, она утомлена и едва ли сможет вести разговор. Я переспросил:
— Что означает «пришлось дать»?
Тогда он распахнул рубашку, открыв шею до самого плеча, и я увидел темно-красную царапину, которая начиналась от кадыка и терялась где-то возле ключицы. Не было необходимости задавать вопросы, однако и он ничего не пояснил, лишь дал мне полюбоваться царапиной несколько секунд. Я был ошеломлен, но и полон любопытства, поскольку никогда не встречался с теми, на кого нападала Элла: вот, значит, как выглядит невыносимое для нее человеческое лицо. По-моему, ничего устрашающего в нем нет, заурядное лицо, бледное, подозрений не внушает. Я поинтересовался, как часто он встречался с Эллой прежде.