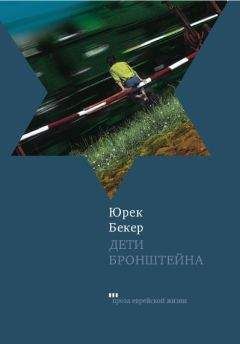Предположим, меня бы избили, и зачем мне тогда извинения? Зоваде преследовал меня взглядом полицейского. Он убежден, что мой проступок можно искупить липовыми извинениями. Может, мне еще прижать к груди этого блевотного парня?
В душевой тем временем появились и мои одноклассники. Кто-то задал мне пустяковый вопрос, из чего я заключил, что о происшествии еще никто ничего не узнал. Пока я шел сквозь пар к Норберту Вальтке, он повернулся ко мне спиной: пусть, дескать, поищет. С мытьем под душем он давно уже закончил и стоял там только ради того, чтобы меня простить.
Я встал под соседний душ, покрутил краны и, выждав несколько долгих секунд, наконец поинтересовался:
— У тебя найдется минутка времени?
— Для чего? — ответил он, вроде как совсем не понимая, о чем речь.
Половина лица красная, половина белая, а посередине распухший нос. Глядя на него, я не испытывал удовлетворения, наоборот, мне было неприятно.
— Ну, это дело… — заговорил я. — В смысле, как я себя повел. Это неправильно.
— Я тоже так считаю, — подтвердил он.
— Мне очень жаль, — продолжал я. — Надеюсь, ты примешь извинения.
Из-под душа напротив один из его друзей, здоровый такой парень, крикнул:
— Все в порядке, Норберт?
— Да, да! — выпалил он в ответ, отмахнувшись. Затем принялся меня разглядывать, словно желая проверить, заслуживаю ли я снисхождения. Эту проверку я тоже выдержал, а он подытожил: — Ладно, забыли. Но ты в другой раз будь поосторожнее.
Выпендреж в его словах мне опять не понравился, поэтому я сказал:
— Значит, будем ждать другого раза.
Выключив душ, я встряхнулся, как пес, и направился в раздевалку под внимательными взглядами со всех сторон. Прыщавый последовал за мной, но вроде бы не с дурными намерениями, просто он шел туда же. По дороге я распустил завязку на плавках, а Норберт Вальтке держал свои плавки в руках, выжимая их на ходу.
Возле дверцы с номером семьдесят один я остановился и нащупал ключ, спрятанный в щели между шкафчиками. Норберт Вальтке прошел мимо, я-то думал, что избавился от него с концами, ан нет. Приостановившись в нескольких шагах от меня, он обернулся и произнес:
— Знал бы я, в чем дело, так не стал бы к тебе приставать.
— Что ты имеешь в виду? — удивился я.
— Ну, не стал бы указывать тебе на табличку.
— Что ты имеешь в виду под словами «знал бы я, в чем дело»?
Он улыбнулся: меня, мол, на кривой козе не объедешь! И ушел, сказав напоследок:
— Давай, будь здоров.
Я смотрел ему в спину, покрытую прыщами еще хуже лица, пока он не скрылся в проходе.
А когда вытирался, понял смысл его слов. Я буквально услышал, каким образом учитель Зоваде заставил его сменить гнев на милость: «Да, ты прав, табличка вообще-то для всех, и для него тоже. Но в этом деле есть и другой аспект, конечно, ты не мог об этом знать, а именно: Ганс — еврей. Тут много щепетильных вопросов, о которых наш брат и ведать не ведает. Надеюсь, ты меня понял». Наверное, так оно и было, поскольку все прочие объяснения не годятся. Я спокойненько двенадцать лет ходил в школу, со мной обращались так, что у меня и подозрений никаких не возникало, а на последнем уроке плавания — на тебе. Сгоряча я чуть было не рванул обратно в зал, но что тут скажешь учителю Зоваде?
Теория моего отца, которую он излагал по разным поводам, гласила: никаких евреев вообще нет. Евреи — это вымысел, хороший ли, плохой ли — можно поспорить, но во всех случаях удачный. Авторы вымысла распространяли слухи о нем с такой убедительной силой и настойчивостью, что купились даже те, кого это касается, кто от этого страдает, то есть якобы евреи, и сами стали утверждать, что они евреи. И это в свой черед придало вымыслу правдоподобие, сообщило ему известную достоверность. Чем дальше, тем труднее вернуться к истокам этой лжи, запутанной в таких наворотах истории, что с доказательствами через них не прорвешься. А особенно сбивает с толку, что множество людей не просто свыклись с ролью евреев, но прямо-таки помешаны на ней и будут до последнего издыхания сопротивляться, если кто попробует их этого лишить.
Пока я одевался, гнев мой поостыл, он ведь относился к школьной жизни, с которой я ныне прощался. Причесываясь, я заглянул во все четыре прохода между кабинками, однако Норберт Вальтке уже ушел. Может, поторопиться, и я догоню его на улице, но к чему? Я понял, что именно мог бы сказать учителю Зоваде на прощанье: «Не хочу уходить из школы, не прояснив одного недоразумения, о котором узнал лишь сегодня. Вопреки вашим предположениям я не обрезан. Этого парня я избил не из высоких побуждений, а из самых низких. Надеюсь, вы не нажали на кнопку секундомера двумя секундами раньше из-за этого недоразумения».
Не успел я спуститься, как опять перед моими глазами встал домик за городом, и Гордон Кварт, и недоверчивый незнакомец у окна, и человек в наручниках на кровати, и бедный мой отец. Я вышел на улицу, не зная, в какую сторону идти. Я забыл, отчего решил скрыть все эти ужасные события от Марты, единственного моего доверенного лица, но помнил, что так надо. Историей про Норберта Вальтке и Зоваде я это возмещу.
***
Сегодня я пропустил почтальона, и как раз сегодня из университета пришло письмо в зеленоватом конверте. Рахель Лепшиц передала мне его как святыню и шепотом сказала:
— Пусть там будет написано то, о чем ты более всего мечтаешь.
Затем она оставила меня одного, чтобы не мешать в такую минуту.
Я рвусь к учебе вовсе не столь рьяно, сколь она воображает. Многие профессии представляются мне вполне приемлемыми: столяр, санитар, крестьянин, садовник, часовщик, к тому же я знать не знаю, чем занимаются дипломированные философы.
Содержание письма оказалось таким, как я ожидал: мне рады сообщить, что я принят на первый курс, а к этому еще полстранички «практических советов». Время покажет, пойдет ли это на пользу философии (чего я пока не исключаю), но то, что мне это будет полезно, точно. Теперь бы найти, кто сдаст мне комнату: студенческую свою карьеру я ни за что не хочу начинать в этой квартире. Четыре месяца в сравнении с масштабами моей задачи — короткий срок, вокруг то и дело слышишь про бесконечные поиски жилья, про километровые листы ожидания. Усевшись за стол, я написал о своем везении Вернеру Клее — мы, можно сказать, друзья. Он солдат, тоскует там в казарме под Пренцлау, ему нужны хорошие известия.
За ужином новости по телевизору идут без звука, причин может быть две: первая — мне следует рассказать им о содержании зеленого конверта, вторая — из какого-то парадного зала передают знаменитую речь по поводу годовщины Освобождения. Когда показывают слушателей в зале, исполненных невероятного внимания, Хуго и Рахель поглядывают на экран. Слышу, как Лепшиц произносит:
— Вон, блондин в третьем ряду.
— Где? — переспрашивает Рахель.
— Сколько там третьих рядов?!
— Так что он?
Раздосадованный Лепшиц молча жует: картинка сменилась, какой теперь смысл рассуждать, на кого похож блондин в третьем ряду. У нас телевизора не было, ни дома, ни на даче. Лично я хотел телевизор, но деньгами распоряжался отец. Как-то я упрекнул его, мол, в классе каждый день что-нибудь обсуждают, а я об этом и понятия не имею, но он ответил: «Да что там понимать-то!»
Не выпуская из виду немого оратора, Лепшиц заявил:
— Могу тебе объяснить, почему он молчит.
— Почему же? — заинтересовалась Рахель.
Взгляд в мою сторону: а понял ли я, что речь обо мне?
— Он ничего не говорит, потому что его не приняли.
Мне дана секундная возможность развеять подозрения, но я ее не использую. Чем дольше они подозревают худшее, тем сильнее будет облегчение.
— Еще я могу тебе объяснить, почему его не приняли, — продолжал Лепшиц.
— Почему?
— Он из гордости не написал в анкете, что является сыном человека, пострадавшего от фашизма.
Именно это я указал в соответствующей графе, хотя мне и тогда было не по себе.
— А при чем тут гордость? — поинтересовался я.
— Можно сказать и «глупость», если тебе приятнее, — ответил Лепшиц.
— Но вы заблуждаетесь. Я не являюсь сыном человека, пострадавшего от фашизма.
Тут они вступили одновременно:
— А кто же ты тогда?
И еще:
— Совсем рассудок потерял?
— Когда я родился, он давно уже не был пострадавшим.
— Это на всю жизнь, дорогой мой, — разъяснил Лепшиц. — От этого никогда не избавишься.
А Рахель Лепшиц добавила:
— Человек не может сам решать, чей он сын.
— Но он может решать, какой он сын.
— В этом я тоже сомневаюсь, — заметила она, а Лепшиц только головой качал из-за подобного недомыслия.
Я не стал ввязываться в спор, который не возник бы без моего вранья, и помолчал еще немного. Может, меня и приняли только по этой самой причине, но мне-то какая забота. Была бы забота, если б я придавал значение учебе и опасался, что удачу мне принесли лишь смягчающие обстоятельства.