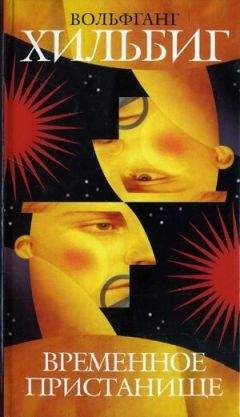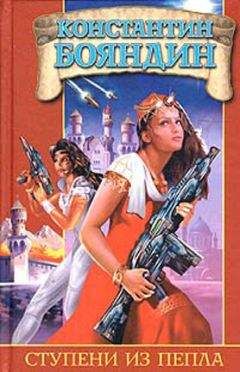В коридорах этих Ц. поначалу жутко плутал, пока наконец не определил для себя круговой маршрут, которого впредь и держался, никогда не меняя вектор движения. Это был переход, опоясывающий бетонный параллелепипед наподобие наружной галереи. Сперва он ходил быстро, суетливо, подавшись туловищем вперед, но вскоре почувствовал, что не справляется с темпом. И приноровился к вялой рысце, принятой на отделении. Это был своего рода беглый шаг, только медленнее самой неторопливой прогулки и почти без отрыва подошв от пола. Машинальная манера передвижения; казалось, так продвигаются через вечность. Но сперва ее нужно было освоить; не осилив и десяти кругов, Ц. в изнеможении упал на угловую скамью в одной из курилок. Переждал, пока неистощимый источник тревоги внутри опять не забурлил, не погнал дальше.
В нем все еще жило нечто, что стремилось обгонять других пациентов; одна из сестер сделала Ц. замечание, призвав вести себя поспокойнее. Возможно, навязчивый соревновательный стиль приводил в возбуждение остальных бегунов по кругу. Но он, как будто лишившись всякой способности к покою, спешил вперед, пока не начинал задыхаться и кашлять. Он считал круги, и выходило все меньше, но в курилках тоже выдерживал от силы пару минут. И тогда решил наборматывать, в такт своим шаркающим шагам, одно слово – итог, конечный продукт забытых мыслей. «Кончено. Кончено. Кончено…» – это было как эхо, цитата.
Завернув однажды за угол, в светлом, до блеска начищенном коридоре, он устремился к яркой застекленной стене и сослепу врезался в привидение, оказавшееся тем длинным, худым как щепка мужчиной, за которым Ц. в свою первую или вторую хаарскую ночь бессовестно, как представлялось ему сейчас, наблюдал.
– Виноват, – пробормотал Ц.
В ответ раздалось:
– Ты, часом, не тот, у кого курево есть?
Сигареты у Ц. имелись; бритву, очки для чтения, книгу он забыл, но пару пачек сигарет в сумку бросил. Ц. обнаружил, что мужчина вовсе не так стар, как казалось; сейчас он тоже был тщательно выбрит, с лица отступило безумие. Он и тут, при всем честном народе, щеголял все в тех же обвисших подштанниках и нижней рубахе мышиного цвета. На сутулом немощном теле болталась ворсистая вязаная кофта, из стоптанных тапок торчали голые щиколотки. Ц. так и подмывало спросить, что тот имел в виду под катастрофой, каких наци страшился, но как-то не хотелось наводить разговор на эпизод своего ночного шпионства. Ц. не знал, что сказать, и, после того как они смущенно перекурили, спросил за неимением лучшей темы:
– А чем вы вообще занимаетесь, что будете делать, когда выйдете отсюда?
Мужчина пожал плечами. Ц. повторил свой вопрос.
– Я алкоголик, – ответил тот.
Ц. усмехнулся, как будто услышал шутку.
– Но ведь не по профессии же?
– Алкоголик, он и есть алкоголик, – последовал ответ. – А господам из бизнеса только выгодно, что мы есть. Потому нас тут и приводят в норму… с куревом, кстати, то же самое.
Ц. снова протянул собеседнику пачку; тот взял сигарету и сказал:
– А сам чем занимаешься? Я уж приметил, ты с востока, но недавно. Из тех, кто проскочил. И уже здесь, быстро что-то. Когда приехал?
– Два года уже… а может, уже и не два? А ты тоже, судя по выговору, оттуда…
– Лет двадцать, как перебрался, что-то вроде того. Не суть важно, сколько ты уже здесь. Это там, за кордоном, было важно, сколько еще осталось. Только и думаешь: сколько еще сколько еще… а потом все вдруг кончается. Ты не похож на профессионального алкоголика, быстро оправился. Так чем занимаешься?
Ц. помедлил с ответом.
– Пишу… то есть писал… я писатель, если тебе это что-нибудь говорит.
– Писатель! – эхом отозвался второй. – Писатель! Это чтобы про здешние порядки написать? Только я как-то не замечал, чтобы газеты нами особенно интересовались.
– Да нет, я книги пишу. Для газет редко… может, когда-нибудь напишу что-нибудь про Хаар.
– Может, и напишете. – Собеседник вдруг перешел на «вы. – Но будьте осторожны, никаких имен! Это нормальная клиника, и мы все рады, что здесь оказались… бывает хуже!
Встреча двоих восточных товарищей в западном вытрезвителе! – подумал Ц. Какой символический судьбоносный анекдот. В тот же день он подошел к старшей сестре, дежурной по этажу, и попросил проверить, какая профессия значится в протоколе о приеме. Произошла ошибка. Сестра удивленно спросила его фамилию, выдвинула длинный металлический ящик и стала рыться в картотеке. Наконец вытянула нужную карточку:
– Тут вот написано, что вы писатель. Явились добровольно. Сами подписывали.
– Прошу вас, – сказал Ц., – зачеркните слово писатель. Это самозванство, это ошибка.
Она слушала так флегматично, как будто самозванство – самая будничная вещь на свете.
– Но что-нибудь мне ведь нужно туда вписать, – сказала она.
– Писателя зачеркните, а сверху напишите: без определенных занятий.
– Как хотите. Только ваши данные уже в компьютере, а там их так просто не исправишь.
– Попытайтесь, пожалуйста, – сказал Ц., поблагодарил и ушел.
Он вспомнил, какую всегда испытывал неловкость, рекомендуясь писателем… еще хуже было со словом поэт. То и дело ловишь на себе взгляды, в которых читается: человек, так отвечающий на дежурный вопрос, хочет вызвать ненужный ажиотаж. А выдохнув робкое «Я писатель», видишь, как собеседник сжимается от напряжения, – словно на то обстоятельство, что перед тобой «писатель», следует стремительно отреагировать отточенным элегантным пассажем, наколдовав за секунду небольшое эссе, поражающее широтой интеллектуального кругозора. Но это-то ладно, все это можно с немой покорностью выслушать, самое омерзительное – вопрос, который может грянуть в любую минуту: «А вы про что пишете?» – Ц. сам наблюдал однажды, как в поезде одного безобидного пассажира вынудили сознаться, что он писатель. «Ах ты, мать честная!» – вырвалось у озабоченного Ц.
Поскольку упоминание темы писательства, похоже, неизбежно было сопряжено с недоразумениями и душевными вывертами, Ц., став автором на вольных хлебах, еще долго сообщал о себе сведения, на несколько лет устаревшие: «Я заводской кочегар». Вариант для образованных: «Работаю на теплосети в металлургической промышленности». После чего ждать расспросов со стороны собеседника, озабоченного поддержанием беседы, обычно не приходилось.
Писательское ремесло у всех вызывает сомнения, и Ц. не знал, в хорошем ли свете оно его выставляет. Писатель – это, наверное, самая немецкая из всех профессий. По крайней мере, сообщение о принадлежности к писательскому цеху вызывает не меньшую оторопь, чем если ты признаешься в кругу иностранцев, что у тебя немецкое гражданство. В азиатской компании, кажется, не очень важно, кто там вьетнамец, кто кореец, а кто китаец. А представляясь немцем, сразу встречаешь оттенок избыточного респекта – тот самый излишек, который необходим, чтобы спрятать улыбку злорадного самодовольства. И когда сообщаешь, что ты писатель, все очень похоже таращат глаза; как будто ты заявил: Я оберштурмбанфюрер! Сообщить о своем писательском статусе – это по-прежнему! (думал Ц.) все равно что звание сообщить.
Таким размышлениям он предавался, пока наматывал в коридоре свои круги. При этом он, как ему чудилось, зависел от освещения: на той стороне галереи, где размещались окна, где сквозь застекленную стену лился белесый свет зимнего неба и были ниши-курилки, Ц. учащал свои шаркающие шаги; гнал вперед что есть силы, паркет под ногами скрипел, курильщики глядели с неудовольствием. Здесь он – «писатель»… эта весть, вероятно, уже разнеслась по отделению, и сейчас ему меньше всего хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил с ним на эту тему. К счастью, курильщики были полностью поглощены дележкой скудных сигаретных запасов. На другой стороне галереи, в электрическом свете, всегда слегка тускловатом, он отдыхал; замедлял шаги или приостанавливался, проверяя, как долго сможет выдержать неподвижность. Укреплял твердость духа, чтобы невозмутимо прошествовать мимо курилок. В один из таких перерывов вдруг вспомнилось, как дня два назад он обдумывал некую мысль в приступе мании формулирования, напомнившей Ц. «речи к народу», что в полудреме произносили иные здешние пациенты. Впрочем, его речь была обращена не к «народу»; к тому же сочинялась она наяву, когда пятнадцатичасовой сон ненадолго прервался. Он представлял, что пишет письмо в министерство культуры, и предложения, складывавшиеся в голове, казались Ц. неотразимо убедительными. Он замыслил ходатайствовать о продлении визы на выезд… (прошлой визы, как теперь приходится добавлять). Формулировки должны быть пронизаны легкой иронией:
«Вам, господин министр, вероятно, еще не доложили, что я до сих пор не вернулся в ГДР. Это не что иное, как знак того, что мое пребывание в ФРГ принесло результаты. Результаты не только в плане литературном, но и в том смысле, что я осознал себя индивидом, коего вы обозначили бы как гражданин ГДР. Отсюда встает вопрос о моем возвращении, который я и хочу с вами обсудить. Вы спросите: „Почему же он не садится в поезд и не возвращается в ГДР?" Причина двояка. Какое-то время назад я вступил в некие межличностные отношения, от сохранения которых, можно сказать, завишу. Вторая причина: давно работая над одним масштабным литературным проектом, я должен избегать поездок и связанных с ними длительных перерывов, так как они, по всей вероятности, разрушительно сказались бы на единстве текста. Посему для продления или же возобновления моей туристической визы предлагаю прибегнуть к услугам почты. Исходя из вашего согласия, высылаю свой заграничный паспорт в постоянное представительство ГДР в Бонне с тем, чтобы мне оформили новую визу…»