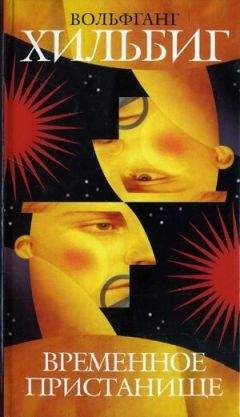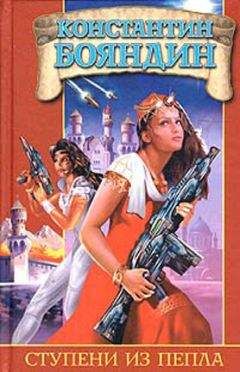Друг, однако же, ошибался, когда полагал, что на праздниках в Хааре особенно тихо. Казалось, клиника переполнена. Здесь подкипало всегдашнее, негромкое, но чреватое взрывом безумие, приглушаемое неусыпным бдением персонала. Ц. вспомнил, каким пустым показался ему город из окон машины, – теперь, кажется, все объяснилось. Та часть мюнхенского человечества, что не сидела сейчас под горящими елками, явилась в приемные пункты нарколечебниц и вытрезвителей, желая подвергнуть себя процедуре, именуемой детоксикация и занимающей несколько суток или недель. Кажется, все они скучились здесь – те, кто не разворачивал в эту минуту упакованные в подарочную бумагу товары народного потребления, кто не вливался в тысячекратные хоры «Тихая ночь, светлая ночь…», издавая вместо того рождественские напевы, радикально отличные от общепринятых. Когда Ц. прибыл на свой этаж, большинство направленных в Хаар уже лежали в кроватях, и было не различить, спят они или корчатся в конвульсиях ярости. В двух полутемных палатах, разделенных незапертой раздвижной решеткой, где стояли на выбор две свободные койки, его встретило клокотание звуков, в которых человеческая природа угадывалась не сразу. Звуки походили на полузадушенный вой и сопение пойманных звероподобных существ, которых по ошибке заперли в одном помещении. Более дюжины пациентов мужского пола всех возрастных категорий лежали на койках, храпя, хрипя и стеная на все лады. Многие испускали сдавленный ноющий звук, как будто им вставили в грудь диковинный механизм, который, помимо их воли, свистит и скрежещет. Все это слагалось в пение, доносившееся будто из нижних, дохристианских, кругов Ада. Другие, напротив, безумолчно лепетали несвязные фразы, жалобы и проклятия, маниакальные речи к несуществующей аудитории; они держали «речи к народу», так это здесь называлось. Иногда говорение нарастало и превращалось в рев, на который соседи, не успевая проснуться, сразу же отзывались пугливым визгом. Тогда за стеклом полукруглой кабины, откуда обозревались обе палаты, хлопали, подлетая наверх, жалюзи. Ночная сестра в темно-зеленом халате, коренастая женщина средних лет, поднимала склоненную над чтением голову и нашаривала кнопку звонка. Свободной рукой она наводила в палату конусообразный луч своей настольной лампы, поворачивая колпак, выискивала в ряду кроватей встревоженный ком, испускающий вопли. Уже этого было достаточно, чтобы понизить рев до приемлемого уровня. Луч прожектора-искателя устремлялся назад в кабину, не забыв перед тем скользнуть для проверки по трепещущим и дрожащим телам, что вплотную друг к другу, но в полной разъединенности предаются своей сокровенной адовой муке. Крики делались тише, вырвавшийся на волю пароксизм возвращался обратно в тело, какое-то время оно продолжало корчиться; жалюзи падали вниз.
Ц. только на следующий день понял, что всю ночь не спал ни минуты. Он лежал словно выжатый до последней капли, но при этом плавал в поту; тело всеми порами производило влагу, под ним, казалось, хлюпали лужи, не впитанные синтетической тканью матраса. К едко-кислым и сладковатым выделениям всех, кто до него населял эти нары, примешивался его пот. В какой-то момент он успокоился и подумал, что окунается в круговорот, отменяющий все различия. «Счастье, – подумалось Ц., – не отменяет различий, напротив, на убожестве порабощенных счастье держится особенно прочно. Только несчастье упраздняет все классификации».
Он вдруг ощутил покой при мысли о том, что лежит на постели, пропитавшейся жизненной влагой верениц поколений, перебывавших здесь до него. Много их было, боровшихся здесь за жизнь, проигравших или в который раз уцелевших. А за ним придут другие, чтобы жить здесь и умирать… а где-то посредине – он, прозревающий тонкую паутинку, на которой подвешен каждый. Спать не обязательно, думал он. Он здесь для того, чтобы подслушать шум великой муки.
Наконец, спящие в обеих палатах так ослабели, что уже только жужжали, будто грузные осоловелые насекомые. Наступала тихая стадия ночи… Неизвестно, подумал Ц., будет ли каждая из этих темных фигур назавтра еще жива. Он чувствовал себя мало-мальски стабильно, тихонько встал и принялся бродить по палате. Койки были отделены друг от друга минимальными промежутками и стояли двумя рядами так, чтобы из стеклянной кабины открывался полный обзор, поэтому Ц. старался передвигаться как можно беззвучнее. Мужчины лежали, будто вздернутые на дыбе, кто прикрывшись, кто почти голый, многие дремали или полудремали, не закрывая глаз; зрачки беспокойно бегали. Но мужчины не просыпались, когда Ц. подходил к кроватям, их глаза вперялись в него враждебно и дико; очевидно, он казался им образиной, принимал обличье смерти. Он наклонился к одному старику, в тревоге, что с тем что-то неладно: от тощего длинного тела мученика, врастяжку лежавшего поверх скомканного одеяла, то усиливаясь, то вновь затихая, исходила непрекращающаяся дрожь. Старик был одет убого, в серые по щиколотку подштанники и такую же серую вязаную фуфайку на голое тело; под головой лежала какая-то майка. Изо рта пузырилась пена, будто он наглотался кислоты, глаза свирепо поблескивали. Ц. показалось, что старик отчаянно силится выдавить сквозь удушливую пену разрозненные слова. Он что-то хочет сказать? Ц. наклонился пониже и вроде бы услышал: Наци… Наци… Гиммлер… Гитлер! – Ц. подумал, что ослышался, и наклонился к самым губам старика. И снова вроде бы послышалось: Гитлер… Гиммлер… СС… Рейхсфюрер CC!
– Что с вами? – прошептал Ц. – Чего вы боитесь?
Старика била дрожь. Напрягшись всем телом, он с трудом выдавил: катастрофа.
– О чем вы? О какой катастрофе? Что должно случиться…
Старика так трясло, что железная рама под ним легонько задребезжала. И страх мгновенно переметнулся на спящих соседей, по палате бежала волна тревоги. Испугавшись, что в окошке ночной сестры вновь взлетят вверх жалюзи, Ц. удалился к себе на лежанку.
Бывали часы, когда из-за бессонницы его чувства обострялись почти до галлюцинаций; он пребывал в иных помещениях, похожих на переполненные большие вокзалы. Расположившись в огромных залах на каменных полах, люди пытаются спать; широкие, ведущие вниз лестницы тоже забиты людьми. Но эти вокзалы ему незнакомы. Он лежал на своей хаарской постели, вслушиваясь в усмиренное буйство мужчин, которым являлись во сне призраки, рожи, чудовища. Шум расходился волнообразно, после минутных затиший он нарастал, подобно далекому шторму, громадой накатывал на невидимый горизонт и мчался вперед, под напором его атаки звенели, кренясь от качки, кровати, и спящие вцеплялись в подушки – каждый сам за себя на оторвавшейся лодке-скорлупке – и хором орали, взрывались единым воплем, но каждый – от своего одинокого страха, со своей одинокой гибелью перед глазами. Чтобы потом изнемочь и затухнуть, будто в безветренной бухте. На это в кабине ночной дежурной не обращали внимания.
Все этажи серого бетонного параллелепипеда были заряжены этими взмывающими и опадающими волнами… как, наверное, и все прочие здания клиники, думал он. Так они держат связь – безмолвным бесовским воем. И где-то в здешней глуши, далеко за Мюнхеном, эти вибрации, как электрическая энергия, собираются в пучки и ведут разговор без свидетелей с таким же безмолвным Богом.
В Хааре будут держать, пока не выгонишь зверя, не выгоришь, опустошенный яростью своего нутра. Потом отпустят, потухшего и пустого; а окончательно иссохнув, ты однажды снова напьешься. Вновь обернешься псом, который воет на Бога…
Три дня понадобилось телу, чтобы войти в режим, в котором оно заново научилось спать. До тех пор Ц. временами ненадолго впадал в беспамятство, равносильное полной апатии. Полузакрыв глаза, лежал на спине и сквозь красноватую дымку воспринимал все, что делалось вокруг, но ничего не мог истолковать. Три ночи и почти три дня продержалась в нем ледяная стужа мюнхенского вокзала, ступни, словно примерзшие к бетонному полу вокзального вестибюля, ничего не чувствовали. Наконец от этих ступней как будто повеяло теплом, и он сразу заснул.
Когда на утро четвертого дня он встал с кровати, одна из сестер заметила, что он проспал больше пятнадцати часов. Ему велели отправляться под душ, выдали маленький бритвенный прибор. В зеркале душевой он насилу себя узнал: гротескный призрак со свалявшимися всклокоченными патлами и седой щетиной в полсантиметра; вокруг налитых кровью глаз – морщины цвета айвы. После душа он почувствовал, что в последние дни ничего не ел, по крайней мере ничего такого не помнит; он жадно глотал слизистый супчик без цвета и запаха, который вместе с горой хлеба раздали утром. После завтрака на отделении воцарялась благоговейная тишина, атмосфера почти церковная. Разрешение выходить в коридор он испросил уже два дня назад. С тех пор как его жизнь в ГДР закончилась, находиться взаперти для него невыносимо! – патетически объявил он. И врач, как это ни странно, дал свое согласие. Так Ц. выдвинулся в группу пациентов, у которых процесс детоксикации протекал успешно и за которыми признавалось право выходить в коридор. Почти шестнадцать часов в сутки мужчины смиренно и молчаливо бродили по коридорам.