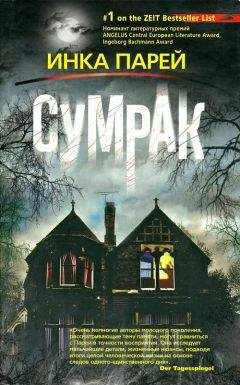— И? — спросил мясник. — Что с пуком-то? Он горит?
Хозяин гостиницы усмехнулся.
— Ну это зависит от…
— От чего?
— От того, что человек съел.
Ночи, казалось, не будет конца. Старик не спал, сна не было ни в одном глазу. Он лежал, изо всех сил стараясь понять, что есть темнота, как неумолима и абсолютна она, — ничто не может ее прогнать. В человеческих силах осветить лишь малую толику темноты, любой источник света смехотворно ничтожен в сравнении с Солнцем. Лампы, даже очень мощные, дают круг света, круг, границы которого видны невооруженным глазом.
Теперь он ощутил жажду. По улице снова прошел трамвай. Старик слышал, как он проехал по тому месту, где улица делает перед домом поворот. Это был один вагон, и ехал он в депо. Между ночным столиком и кроватью было расстояние шириной в ладонь, куда старик втиснул сейчас плечо. Взявшись рукой за край ночного столика, он подтянулся вперед и достал край раковины. Трамвай тронулся, не издав ставшего привычным громкого звона, тормоза скрежетали тоже тише обычного. Старик вытянул руку чуть дальше, почувствовав, как от напряжения щелкнула нижняя челюсть. Трамвай невообразимо медленно свернул за угол. «Вагон, наверное, совсем пустой», — подумал старик, прислушавшись к звуку, с каким тот поворачивал, — то был глухой металлический лязг.
Он плотно стиснул зубы и дотянулся до водопроводного крана, но не смог повернуть его одним пальцем. На полочке раковины стоял не мытый с утра пустой стакан. Старик выдохнул, подался еще вперед, ухватился за кран, подтянулся, а потом повернул головку и некоторое время прислушивался к струе, текущей в слив раковины, и к стихающему дребезжанию удаляющегося трамвая.
Потом он вдруг подумал, что едва ли увидит завтра незнакомца. Постояльцы обычно появлялись здесь после полудня, а наутро уже исчезали. Редельгейм — это лишь пригород, зажатый между автомобильными мостами и огородиками, добровольно здесь никто не задерживается.
Он закашлял.
И задумался.
А что же он, он что, остался здесь добровольно?
Он задумался и над тем, что означает — добровольно, но так и не пришел к окончательному выводу. Не является ли добровольность следствием обстоятельств? Нечто, дающее человеку возможность проявить собственную волю и способность к суждению только для того, чтобы в каждом случае поступить неправильно, или, еще того хуже, бессмысленно? Или, напротив, это внутренняя свобода в каждый данный момент решать свою судьбу, даже в таких ситуациях, когда кажется, что выбора вообще нет?
— Прежняя владелица завещала ему дом по желанию своего мужа, фамилия которого была Мюллер, а имя — Карл. В сорок третьем он пропал без вести на Восточном фронте.
Наконец-то он пил. Вода текла по пальцам, по шее, просачивалась под рубашку.
Это была полная бессмыслица становиться наследником. У него нет своих наследников, а сам он скоро умрет.
И, как нарочно, Мюллер, имя которым легион. По крайней мере, он, кажется, догадывался, кто был тот человек, но не был в этом твердо уверен.
Получение завещания пробило дыру в его жизни. Иногда ему казалось, что это окошко, в которое следовало заглянуть хотя и очень ненадолго. Заглянуть, только лишь для того, чтобы задуматься о глубине и бездонности, таящихся во тьме отверстия.
Недели, последовавшие за получением завещания, стали временем невероятных оттяжек и проволочек. Он часами, не в силах шевельнуться, сидел у себя в квартире на краю кухонного стула. Именно тогда он впервые в жизни понял, что буквально означает выражение «оцепенел от страха», понял, что оцепенелость есть сущность страха, чувство внутреннего ускорения — если выражаться точно — в то время, как все остальное вокруг тебя происходит очень медленно, невыносимо медленно.
Он отправился в архив вермахта. Делая над собой неимоверное усилие, он обошел длинные ряды подвесных папок, просматривая бумаги, в которых документально подтверждались места службы, должности, участие в боевых действиях и точные или предположительные обстоятельства гибели людей по фамилии Мюллер, но этот поход не добавил ему уверенности. Возникли лишь новые предположения и неразрешимые вопросы.
Просмотрел он также и списки фотографий пропавших без вести, он думал, что фото заставит его вспомнить, пробудит его память, но и этого не случилось, он не узнал никого. Когда видишь множество таких фотографий, впечатления накладываются друг на друга, перекрываются, ему бросались в глаза только те черты, которые отличали просматриваемое фото от предыдущего.
Он прищурил глаза и попытался некоторое время побыть в таком состоянии — с глазами не закрытыми полностью, но и не открытыми.
Ему представилась деревня с неизвестным ему названием. Он изо всех сил хотел думать о нем, он заставлял себя думать о минувшем дне, но у него ничего не получалось. Он видел себя идущим по тропинке с кабельной катушкой в руках. Позади горела машина. Кабель бил по коленям, холодный ветер обдувал спину дымом.
«Как она называется, ты даже не знаешь названия деревни, — проговорил какой-то голос, — так как же ты сможешь меня в чем-то убедить». Но вспомнить было решительно невозможно.
Он вздрогнул. Все последние годы в своей берлинской квартире — где ему несравненно легче спалось — он мог слышать все на свете: скрип половиц, треск железных подоконников, жужжание электрического счетчика, а с улицы — отдаленные крики подгулявших пьяниц. Но здесь все было по-другому. Здесь он иногда воспринимал и ощущал такие вещи, о которых разум говорил, что они просто не могут существовать. Странные шорохи и шелест доносились из глубокой трещины, прорезавшей стену прихожей. Уродливая кривая трещина. При передаче домовладения адвокат рассказывал, что эта трещина тянется от верхнего этажа до самого низа. Возникла она оттого; что прежние жильцы после последнего сокрушительного налета на город Франкфурт вопреки всем законам статики решили устроить под подвалом дома собственное бомбоубежище. Иногда старик слышал женщину, жившую здесь до него в течение тридцати пяти лет. Когда он думал об истоптанных дверных порогах или о пятне на полу гостиной, где раньше стоял ее диван, он явственно видел, как она сидит на нем, он слышал ее шаги, когда она шла из гостиной на кухню или в спальню или в ванную, — женщина всегда была одна.
Старик огляделся. Взгляд его упал на большой сундук, его безмолвная черная громада занимала треть маленькой комнаты, где он спал, но зато из сундука никогда не доносился голос бывшей владелицы. Он повернул голову чуть в сторону, и теперь взгляд его уперся в захламленный промежуток между сундуком и маленькой деревянной скамеечкой, на которой он держал всякую всячину: лампочку «горное солнце», стопку кулинарных журналов и обувную коробку, в которой хранил старые лекарства. Зачем он привез с собой все эти вещи? Он оцепенело смотрел на них — источавших пыль и равнодушие. Потом он взглянул на дверь, вспомнил, как пару часов назад открыл ее, точнее, приоткрыл, чтобы вползти в комнату. Ему отчаянно захотелось, чтобы дунул ветер и сдвинул дверь, — окно было открыто. Но ветра не было. Старика обуял страх, что он никогда больше не увидит эту дверь открытой полностью.
Взгляд его заскользил дальше, к маленькому комоду слева от двери; на комоде он держал щетки и папку со старыми документами — оттуда голос тоже никогда не раздавался. От раковины взгляд сместился чуть ниже и остановился на сливе, потом переместился на трубу, он и сам не понимал, почему его так заинтересовала труба; старик прислушался, да, он что-то услышал — пустой булькающий звук: из крана текло. Это был обычный металлический кран, покрытый застарелыми пятнами мыла. Старик уставился на него и стал ждать, когда упадет следующая капля. До ее падения прошла целая вечность. Но когда она наконец упала, он услышал совсем другой звук, гулкий гремящий тон внутри металлического пространства, звук ширился, уходя далеко за пределы трубы, это была не труба, а пещера, на дно которой падали тяжелые капли, падали с невыносимо громким звуком, исчезавшим где-то далеко внизу, в самом конце этой бесконечно длинной трубы, в адских глубинах.
— Я учился в народной школе, — крикнул он, — там не учили чужих языков, я не могу упомнить все эти иностранные названия.
Он не был уверен, что с его губ вообще слетают какие-то звуки. Если да, то они сразу же рассеивались в тишине комнаты.
— И кроме того, — продолжал кричать он. — Это же чудовищно — знать, что каждую минуту можешь умереть, — как можно вынести это!
Он снова посмотрел на серую дверь, она так и не шелохнулась. Внезапно его охватило чувство, что в этой фразе что-то не так.
Он уставился в пустоту.
Он увидел восемь домов, все они были пусты, и амбар. Нет, это был не амбар, ему так показалось только с первого взгляда, это было длинное низкое деревянное строение с плоской крышей и очень маленькими оконцами. Он видел себя, открывающего замок, отступающего от двери с винтовкой наперевес. Он рванул дверь восемь раз, на девятый она поддалась. Он заметил бревна с поперечно прибитыми к ним досками, дорожку и кучу песка. Очень отчетливо на песке виднелся отпечаток двери.