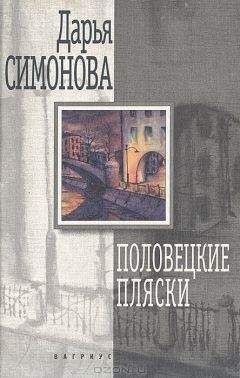Зоя обреченно роняла трубку на рычаг и заливалась тихими слезами. «Не надо было, не надо было ему это говорить», — бормотала она в горьком озарении заднего ума. Потом предложила мне разжиться у нее кое-какой одежкой, например, ужасающим джемперком салатного оттенка вырви глаз, да еще и с рукавами «летучая мышь». Мне, однако, пока не хотелось выходить в тираж, иллюстрируя моду прошлого десятилетия. Тогда она позвала соседку снизу. Та ей категорично посоветовала снести хлам на помойку и поспать, а то круги под глазами. Зоя, вопреки обычаю, не ответила ей встречной любезностью, а только изумилась вдогонку чудовищной черствости и нечуткости, которая так портит человечество.
Вечером Марина нагадала Зойке все три кита — любовь, почести и деньги. Половецкая посмотрела на нее с нежностью маркизы де Помпадур, которая выплачивала пожизненную пенсию придворному балагуру, предсказавшему еще девятилетней маркизе королевское ложе. Что ж, да будут вознаграждены накаркавшие нам удачу, бездумным словечком вызвавшие доброго джинна. Языком молоть — хоть дело и нехитрое, но опыт показывает, что не всякий истолкует карты в радужных тонах, ибо народ сам виноват. Не приплетешь болезнь или измену — кто в твое гадание поверит, оптимистов не жалуют, потому как разве бывает все в ажуре, если ты, конечно, не генеральский сын и не Любовь Орлова в фильме «Веселые ребята»…
Но Зоя верила. Она надеялась и на бессмертие души и ничем бы не погнушалась при условии, что все кончится хорошо и что это хорошо не кончится никогда. В гостях, когда Зое предлагали на выбор раскладушку с подушкой или диван без подушки, она выбирала последнее, ибо всегда ожидала, что кто-то захочет лечь рядом и она не вправе о нем не заботиться, пусть даже он ангел бестелесный. Обычно на Зою никто не зарился, но разве это повод для минора…
Неделю спустя Зоя низверглась в преисподнюю. То есть упала в люк. Аркаша прокричал это в трубку и затих, мне было предписано вызывать Рыбкина что есть мочи… И я вызывала его, тощего Орфея, которому предстояло спуститься в канализационное царство Аида за своей пьяной Эвридикой. И мир, затаив дыхание, ждал встречи двух полубожеств, а потом в честь их титанической брачной ночи три дня не должно было вставать солнце — как у Алкмены и Зевса.
И все умирают от зависти…
От ноябрьской свадьбы в памяти остались только цветные пятна. Зоя в бордовом платье на талой жиже из снега и грязи. Рыбкин, с обреченной улыбкой слизывающий капли соуса с белого манжета. И густая зелень копии Айвазовского, висевшей в ванной. Вся подготовительная суета прошла мимо меня. Единственный раз Зойка снизошла до старых товарок вроде нас с Мариной, чтобы излить обиду на мегеру в загсе: та, увидев замешательство будущей невесты при выборе брачной церемонии, съязвила: «Милая моя, вы, может, на старости лет еще в белом платьице с фатой явитесь?!» Зоя не стала давать пощечину, как-никак невесте положено быть беззащитной. Но и в белом она прийти не рискнула. «Цвет запекшейся крови и зрелой страсти», — объяснила она Рыбкину смысл своего одеяния. Насчет крови он не понял, но промолчал. Многие тоже не понимали, но уже насчет того, как это Зое все удалось. И тоже молчали. Это не зависть, а напрасная приверженность логике. Якобы счастье нужно заслужить… скажем, примерным поведением или чистыми половичками, выслугой лет где-нибудь на шатком стульчике учетчицы или кассирши… Пригожей ли физиономией, абсолютным слухом, любовью к потомству или собачкам — да мало ли заслуг на свете… А тут вдруг нетрезвая оторва Зоя Половецкая с несвежим лицом ворвалась в Эдем без очереди. Так что некоторые гости выглядели обескураженно. Зоя же суетилась и не могла обрадоваться никому в отдельности. Рыбкин закрывал глаза и улыбался, ему что-то нашептывал Макар, но Макар не портил атмосферы. Он просто давал понять, что с его колокольни суетливое мельтешение квалифицируется как женитьба августейшего друга Рыбкина, а никак не замужество некоей Половецкой. Но Зоя смирилась и с Макаром, и с нервозной старушкой свекровью, и с постными физиономиями друзей, спрятавшихся за горками салатов и не желающих собраться в одно ликующее стадо с криками «Горько!», смущавшими Рыбкина. Она с решимостью отдалась традиции. Тут вдруг ворвался долгожданный сын в кепке и в галстуке. За спиной его любопытствующе улыбался малорослый бритый друг со шрамом на виске и в шинели. Друг цепко, словно дубинку, держал розу особой масти, с опаленными лепестками. Сын не обратил особого внимания на Рыбкина, а сразу перешел к делу. «Сюрпри-и-иззз! Едем, мама, на карусели…» Его долго не понимали, Зоя явно боялась подвоха и оборонялась последним доводом о том, что зимой аттракционы в спячке. «Не боись, наши — работают, спэшил фо ю! Мы с Виталькой угощаем!..»
Это был лучший подарок на все времена. В сущности, какая разница, где хмельному человеку выплеснуть адреналин, и разве хуже скрипучий парк культуры и отдыха, экзотика межсезонья, чем ритуальное свадебное обжорство… Странная сказка: недовольный зябкий город кружится на карусельных цепях, бренные тела встряхиваются, как микстура перед употреблением, невеста и жених медленно и торжественно плывут на чертовом колесе в сумерках окраин, темнеет, стреляет шампанское, все устроил Виталик, который совсем ни при чем, какая разница, это же свадьба Зои Половецкой, которую можно было бы считать кадром из режиссерского дебюта начинающего феллиниантониони, если бы не два служителя-механика, задравшие лица с тлеющими беломоринами. Одного Марина расцеловала в шершавые скулы, беспрестанно хохотала, кадрила чужого толстого мужа, который басовито выводил одну и ту же строчку из псевдоказацкой песни: «…разлюбил я тебя, черноокая…» А с неба закапали темные хлопья, свеженькая луна пряталась за газовыми шторами облаков, Бог одобрял водевиль. Веселящая жидкость не кончалась, и виновники праздничного безобразия давно затерялись в круженьи, а может, улетели, как Мэри Поппинс, исчезновение не портило сюжета. И мы тоже летели дальше на каруселях сансары сочинять свои ночи и дни, и разбрасывать их, и дарить тем, кто случайно обретет место под нашим солнцем.
Глава 1
Горькая ягода любви, или Осенние плоды легкомыслия
Город маленький, а дороги длинные, как жизнь вегетарианца, — успеешь стереть в кровь ступни, переболеть инфлюэнцей и превратиться в свидетеля Иеговы. К пункту «Б» подходишь мудрым, как аксакал, и светлым, как дитя. Никаких соблазнов, кроме кружечки чая и тепла двух газовых конфорок. Либо задыхаться, либо мерзнуть, лучше попеременно, ибо из любых зол страшнее то, что бесконечней. Перемены спасут мир.
Елизавета Юрьевна уже не купит ботинки, это как пить дать, много мелких бумажек против весомой купюры не тянут, что ни говори. А разменять пришлось — что еще с деньгами делать, не лежать же им сиротливо в ожидании торжественного обмена их на свеженькую зимнюю обувь. Холодно снаружи — тепло внутри, кошелка у Елизаветы Юрьевны была набита гостинцами для Ермаковых и для себя. Слюна текла в ожидании желудочного праздника. Еда куда надежнее ботинок, тем более пока только щадящее начало осени. А с ботинками что-нибудь придумается.
Наташа открыла дверь в шали и в беспокойстве. Она, впрочем, всегда беспокоилась — то спина, то давление, то псевдосердце (не верилось в заковыристые диагнозы). Елизавета Юрьевна, конечно, старалась ее жалеть. Примерно как свою бабушку. Но ведь Наташе только-только двадцать восемь стукнуло.
Юниса, слава богу, не было. Они с Наташей уже в «почти разводе», хотя и брака никакого не заключали, и славно, что не наделали глупых печатей и Наташа не взяла его фамилию. Здесь малость трезвого национализма просто-таки требовал здравый смысл. Хотя фамилия — дело десятое, и зря, быть может, Наташины болтливые друзья ополчились на скромного угрюмого прибалтийца. Впрочем, происхождение здесь роли не играло, и маленький рост тоже. И даже серьезность гамадрила, с которой Юнис слушал скабрезные анекдоты. В сущности его можно было назвать дельным чистоплотным занудой, а пунктуальность и ежедневная отсидка на работе с девяти до пяти еще не признаки дебильности. Как, собственно, и некоторые странности типа мытья полов раз в три дня с хлоркой. Все, разумеется, из-за ненависти к кошачьему запаху, столь сильной, что Наташиному коту пришлось таинственно исчезнуть вскоре после воцарения в доме нового хозяина. Однако Юнис продолжал истязать домочадцев хлоркой и набивать газетами кошачью ванночку. Зачем — никто не знал и никто не спрашивал. К счастью, Юнис тоже был не слишком разговорчив.
Ну, эстонец, ну что теперь — рассуждала Наташа в счастливые дни. Но сейчас она, правда, чуть не плакала. Елизавета Юрьевна потушила верхний свет, поставила чайник и приготовилась слушать. Наташа вышивала бисером. Приятные безделушки из разряда висюлек и широких браслетов, напоминающих нехитрую добычу мародера, ограбившего старушенцию — веселую вдову. Наверное, впечатление ветхого бархата или аура Наташиных пристрастий к старине… Так или иначе — Наташа старалась ради продажи, но не сдерживалась и дарила свои вещицы всякому встречному, кому понравилось. Юрьевна подумала-подумала и решила — ну что ж, сегодняшний день уже в прошлом, можно и бисером повышивать, раз такая оказия. Ей тоже захотелось попробовать, она истыкала все пальцы, а тут и чай подоспел, и время, доверительно посерьезнев глазами, спрашивать, что же опять стряслось. Но ничего нового не стряслось, Наташа опять при Юнисе не помыла петрушку.