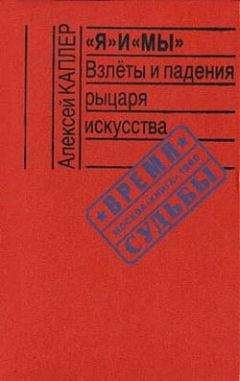Мы давали кукольные представления в подвале «Бродяга», что помещался на Софиевской улице Киева. Козинцев и я показывали кукол и говорили за них. Григорий Михайлович исполнял фальцетом все роли, для коих нужны были высокие голоса, я – басовые. Юткевич вертел шарманку и выкрикивал тексты от автора.
Я расскажу об этом подробнее в главе «Первая любовь».
Мое последнее выступление в актерском качестве состоялось, когда я уже окончательно разочаровался в своих отношениях с этой профессией, образумился, переехал в Одессу и сделался заведующим культотделом Союза работников искусств. Стал, так сказать, приличным человеком.
И вдруг приглашение из Ленинграда от моих друзей: так, мол, и так – ставим «Шинель», приезжай играть роль «значительного лица».
Козинцеву и Траубергу часто приходили в голову фантастические идеи. Однако же мне захотелось поехать. Как быть? С работы никто не отпустит…
И вот приходит в Союз на мое имя телеграмма: «Сестра умерла, выезжай немедленно». Подпись почему-то «Эльга». Никакой сестры в Ленинграде у меня не было. Никакой Эльги не существовало в природе. Просто так отреагировали Козинцев и Трауберг на мое сообщение о том, что я рад бы поехать, да не отпустят.
Сослуживцы поахали над телеграммой. Начальство дало отпуск и даже деньги на дорогу. Почти два месяца я был занят на съемках «Шинели». Естественно, что похороны сестры не могли длиться так долго, и я написал в Одессу, что меня постигло новое бедствие – я заболел сыпным тифом.
В ответ пришло полное сочувствий письмо и запрос – в чем я нуждаюсь?
Наконец, настало время возвращаться. Сообщив о «выздоровлении», я сел в поезд и поехал домой, в Одессу. Еду и мучаюсь. Не по поводу своих обманов, а из-за того, что у меня очень уж цветущий вид. Не похож на перенесшего сыпной тиф. Толстый, как шар, красные щеки, человек, как говорится, пышет здоровьем. Взгляну в зеркало и отвернусь в отчаянии. Как быть?
Ехал, ехал и, наконец, додумался: в Фастове, во время стоянки поезда, зашел в парикмахерскую и попросил наголо обрить голову. Эффект получился поразительный.
Вся моя толщина стала признаком нездоровой полноты, и даже ярко-красные щеки выглядели как-то болезненно.
Я убедился в этом по печальным, сочувствующим взглядам своих сослуживцев.
Председатель Союза, вздохнув, предложил выдать мне денежную ссуду. У меня хватило осторожности не взять ее.
Еще через три месяца в одесских кинотеатрах начали демонстрировать «Шинель», и миф о сыпном тифе вместе с легендой о похоронах сестры разлетелись как дым.
Состоялся серьезный разговор, а те из сослуживцев, с которыми я дружил, хоть и в шутку, но довольно чувствительно меня отлупили. Снова пришлось пострадать за искусство.
Через некоторое время я все-таки бросил спокойную жизнь и перешел на Одесскую кинофабрику. Сделался ассистентом А. П. Довженко, который начинал работу над «Арсеналом».
После работы с Довженко я стал режиссером, поставил несколько короткометражных и даже одну большую картину, не выпущенную, впрочем, на экран ввиду ее «упадочничества» – «занепадництва», как было сказано в акте правления ВУФКУ – тогдашнего Украинфильма.
Однако же все мои блуждания в театре и кинематографе в актерском и режиссерском качестве становились для меня все менее и менее интересными.
Не удовлетворяла участь произносить чьи-то слова, передавать чьи-то мысли, в то время как мои собственные оставались при мне.
Меня «распирало» от интереснейших (как мне казалось) историй, которые совершенно необходимо сообщить всем. Мне хотелось передать свои мысли, свои взгляды. Это и только это казалось важным. Я думал, что могу сказать нечто такое, чего никто другой не скажет.
Ни в качестве режиссера, ни тем более в качестве актера я этого сделать не мог.
Был, правда, предо мной пример – человек, который сочетал в себе и режиссера и писателя, – Довженко.
Но он представлял собою феномен, личность неповторимую не только по силе таланта, по особости своеобразного мышления, но и потому, что Довженко был и философом, и писателем, и кинорежиссером одновременно. Все эти качества переплетались, сливались в нем. Ни один художник не мог повторить Довженко. Он был уникален, единственен. Однако о Довженко невозможно говорить бегло. Отложу это на будущее…
Я начал писать рассказы, но «кинематографическая отрава» ужасно мешала. Незаметно для самого себя я превратился в кинематографиста – не мог уже думать иначе как кинематографическими образами. Все непроизвольно приобретало экранную форму.
Но кроме этой эмоциональной причины, которая толкала меня на тернистый путь сценариста, была и другая.
Множество молодых литераторов, как и я, поняли огромные возможности, скрытые в новом виде литературы – кинодраматургии. Ведь кинематограф, в сущности говоря, вошел в современное человеческое общество как неотделимая часть его духовной жизни. Трудно сказать, что больше теперь влияет на человека – книжная полка или экран, будь то большой экран кино или домашний экран телевизора.
А выразительные средства кинематографа, его эмоциональная сила, на мой взгляд и по мнению моих единомышленников, несоизмеримы с прозой или условностями театра.
Итак, непоправимое свершилось – я стал на всю жизнь сценаристом.
Случилось так, что после смерти Козинцева меня долго не было в Москве.
Приехав, я стал разбирать скопившуюся корреспонденцию и вдруг… среди различных писем, повесток, приглашений и извещений – вдруг: его острый почерк на конверте! Почерк Козинцева, которого уже нет с нами, Козинцева, чей портрет, затянутый прозрачной пленкой, стоит на литературных мостках Волкова кладбища в Ленинграде.
Веселое, шутливое и грустное письмо долго лежало, дожидаясь меня. Оно написано за две недели до смерти. «…Не пора ли нам, вместо того чтобы случайно видеться на каком-нибудь пленуме или фестивале, наконец, встретиться по-настоящему?…»
Как несправедливо редко, как нерасчетливо редко мы встречались в последние годы по-настоящему! Будто в запасе вечность. Сколько раз откладывались свидания – не страшно, успеется…
И вот – этот холмик свежей земли, цветы, косые струи бесконечно грустного ленинградского дождя, стекающие по пленке, которая защищает его портрет.
Эти заметки ни в малейшей степени не претендуют на то, чтобы хоть в какой-то мере рассказать о большом художнике, но, мне кажется, всё, относящееся к личности Козинцева, даже несколько отрывочных воспоминаний, поскольку они имеют касательство к нему, могут оказаться интересными для читателей.
В чем выражается значительность, масштабность личности человека?
Это трудно определить, но, когда я в первый раз встретился с тринадцатилетним худеньким, угловатым мальчиком, мне сразу бросилась в глаза его особость, его наполненность какими-то большими интересами, его – как теперь сказали бы – высокая духовность, тонкая душевная организация.
Глубокая интеллигентность этого молоденького художника была и органическим свойством его натуры, и отражением атмосферы семьи доктора Козинцева, отражением личности старшей сестры Любови – талантливой художницы левого направления, отражением личности Ильи Григорьевича Эренбурга – ее мужа.
Многое в жизни оставалось для молодого Козинцева где-то в стороне, он был полон огромнейшим количеством своих интересов, связанных с живописью, театром, литературой.
От него сами собой отскакивали плоские шутки, полуприличные анекдоты. Да и слышал ли он их?
Он как-то снисходительно улыбался, как бы жалея того, кто это произносил, как бы будучи много старше этих шутников, хоть они часто годились ему в отцы, а то и в деды. Вскоре в нашей компании появилось еще одно лицо. В Киев приехала семья Иосифа Ивановича Юткевича. Семья поселилась в Пассаже, на Крещатике, 25, и к нам присоединился такой же тоненький, как Козинцев, и тоже угловатый мальчик с тросточкой – тоже, как и Козинцев, художник, и тоже мечтатель, и тоже страстно живущий интересами искусства – Сережа Юткевич.
Их взгляды поразительно совпадали, и эрудиция обоих была, совершенно фантастической.
Каким образом эти два мальчика успели столько прочесть и осмыслить, узнать и выработать свое отношение к произведениям литературы и искусства от Плавта до Хлебникова, от Мадонны Рафаэля до башни Татлина? Комедия дель арте, теории и парадоксальные пьесы Евреинова, Мейерхольд, клоун Донато, имажинисты, Марджанов, «Потоп» Бергера, американское кино, Гольдони и Гоцци, Маяковский, Маринетти, кубисты, супрематисты, футуристы, конструктивисты… чего только они не знали…
Симпатии и антипатии Козинцева, да и всей нашей компании, были категоричны и не знали полутонов. Мейерхольд был, конечно, «да», МХАТ, конечно, «нет», итальянская комедия масок – «да», бытовой театр – «нет», Маяковский – «да», Надсон, Бальмонт, а тем более Северянин и иже с ними – «нет, нет и нет», футуристы – «да», символисты – «нет».