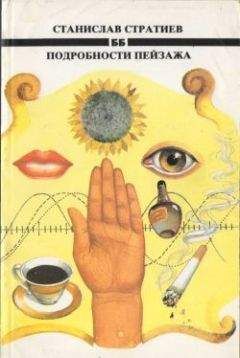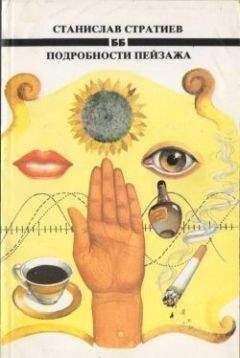– Тогда уже все уехали, – сказал режиссер.
– Может быть, она встала рано, – с усилием произнес Милко. – Обычно она поднимается в шесть. Наверное, где-нибудь здесь, но фокусничает.
Сценарист переглянулся с режиссером и побежал в милицию.
Катер медленно шел по реке, время от времени останавливался, и тогда водолазы опускались под воду, обследовали дно. На нагретой солнцем палубе стоял сценарист и напряженно всматривался в зеленую воду.
Уже были проверены район вокруг гостиницы, парк, причал для рыбацких лодок, место, где велись работы по расширению пристани. Осмотрены были и длинные, прогибающиеся и ненадежные деревянные мостки над водой. В одном месте перила оказались сломанными, но никто не мог вспомнить, когда они сломались, – вчера, месяц или два назад.
Лес на берегу реки уже тронула осенняя желтизна, было тихо, и в этой тишине слышались только шум мотора и короткие команды, подаваемые водолазам. Солнце уже клонилось к горизонту. Вокруг царило осеннее великолепие – и в лесу, и над речным простором, и над маленьким катером, на палубе которого стоял сценарист, чувствуя всю нелепость этого торжества осени.
Ее нашли у маленького подсолнечного поля.
Река вынесла ее на берег и оставила там, где кончается серая галька и начинается трава. Она лежала с открытыми глазами.
Маленькое поле с неровными рядами подсолнухов ютилось между рекой и низким лисом. Над ним дрожал свет закатного солнца и яростно жужжали дикие пчелы.
Сценарист так и запомнил все это – маленькое подсолнечное поле, речной простор, дрожащий свет и лежащая с открытыми глазами девушка. Он знал, что никогда не сможет этого забыть.
Потом кто-то принес дикий мед, собранный в трещинах скал. Темный и ароматный, терпкий, с едва уловимой горчинкой, он был похож на камень, и, как камень, его нужно было откалывать от скалы.
– Сохраняет свой аромат много лет, – сказал моторист с катера. – Его можно перепутать с пчелиным ядом, у которого такой же запах. Но пчелиный яд горький и жжет язык.
Над ними яростно жужжали дикие пчелы. Они словно догадывались, что их ограбили, без труда отняли то, что они так долго собирали.
– Кажется, поняли, – засмеялся моторист. – Ешьте скорее, не то ужалят.
Сценарист сунул в рот ароматный кусочек меда. От него во рту вязало.
Когда все формальности были закончены, стали собираться обратно.
Дикие пчелы набрасывались на них и тогда, когда они поднимались на катер.
В номере гостиницы было сумрачно, за окном смеркалось, и очертания тополей на фоне неба становились все менее четкими.
Сценарист сидел молча, наблюдая, как угасает день.
„Что происходит? – думал он. – Что с нами происходит. Я стоял, как зритель, на балконе… был свидетелем убийства и ничего не предпринял… Но я даже не предполагал, что такое может случиться… Это ничего не значит, абсолютно ничего не значит… вопрос в том, что я не вмешался… Нужно было спуститься вниз, помочь ей… но я даже не попытался… это меня не интересовало… да, все дело в том, что это меня не интересовало…
– Ты о чем задумался? – спросил режиссер. – Снова об этом?
– Об этом, – вздохнул сценарист.
– Во-первых, – сказал режиссер, – еще не известно, бросилась она в воду сама или перила сломались, или были сломаны и она не удержалась…
– Можешь быть уверен, – прервал его собеседник, – она бросилась сама…
– Никто не может сказать этого с уверенностью.
– Может, – покачал головой сценарист.
– Глупости, – спокойно сказал режиссер. – Извини, но ты говоришь глупости. Ты слишком взволнован тем, что произошло. Ты видел труп, когда его везли в город… Тебе нужно успокоиться.
Сценарист покачал головой.
– Как раз наоборот – мне нужно встревожиться.
– Зачем же так? – сказал режиссер. – Вы, писатели, ужасно чувствительный народ, любая мелочь может вывести вас из равновесия… Давай лучше выпьем, успокоим нервы.
– Она сама бросилась. Я интуитивно чувствую это. Почему я ее не остановил? Почему не окликнул с балкона?
– Успокойся, – сказал режиссер.
– Я спокоен. Просто думаю: он не оставил ей другого выхода, понимаешь? Ей нужно было или смириться, а это могло продолжаться всю жизнь, ежедневно закрывать на все глаза, или…
– Ты же сам видел, что перила там были сломаны, деревянные мостки шаткие, они прогибались под малейшей тяжестью. Кассирша была в таком состоянии, когда человек не отдает себе отчета в том, что делает, и упала в воду. К тому же она не умела плавать.
– Перила сломались, когда она бросилась в воду, – сказал сценарист.
Перед глазами у него стояла худенькая поникшая фигурка молодой женщины, растаявшая во мраке парка. Он был уверен, что видел у нее на глазах слезы, по ее походке понял, что она – обреченный человек, хотя тогда и не осознавал этого.
– Факты говорят о другом, – сказал режиссер.
– Есть вещи, которые трудно доказать, но которые чувствуешь интуитивно.
– Знаю, – усмехнулся режиссер. – Номер с интуицией мне известен. Когда актер не может справиться с ролью, интуиция подсказывает ему, что она плохо написана.
– Интуиция опирается на предшествующий опыт, – сказал сценарист, – это уже доказано.
– Мне кажется, ты напрасно все драматизируешь. Все твои догадки основываются на домыслах. У тебя это профессиональный навык.
Сценарист покачал головой:
– Все дело в том, что это не мои выдумки.
Режиссер посмотрел на него, в свою очередь покачал головой и расстегнул две последние пуговицы, на которые еще была застегнута его рубашка. Было душно. Гостиничный номер, по размерам хотя и больше обычного, настолько был нагрет солнцем, что, казалось, стены его излучают тепло.
– Если даже она упала, – сказал сценарист, – то не захотела спастись. Решила, что нет смысла. Нашла неожиданное разрешение всех проблем.
Его собеседник снова покачал головой, вытер рукой потный лоб и пошел в ванную. Там в раковине лежали бутылки с белым вином, охлаждаемые льющейся из крана водой. Ее брызги приятно освежили режиссера. Он подставил под струю сначала голову, потом плечи и долго стоял так, закрыв глаза. Затем взял одну бутылку и вернулся в комнату.
– Давай выпьем, – сказал он. – Несмотря ни на что. Они медленно пили терпкое на вкус холодное вино, его прохлада приятно разливалась по жилам.
– Такова жизнь, – режиссер налил по второму бокалу. – И ничего не поделаешь.
Сценарист молчал, глядя на почти растаявшие в темноте очертания тополей.
– Не захотела жить, – сказал он задумчиво. – Знаешь, глаза у нее были открыты, впечатление было такое, будто она смотрела на меня.
Его собеседник вылил оставшееся вино в бокалы. Они молча чокнулись. Тихий звон замер в душной комнате, и снова стало тихо.
– Она не смирилась, – сказал он, – понимаешь? Не согласилась, не пошла на сделку. Есть люди, которые не идут на сделки.
Режиссер смотрел на него озабоченно.
– Ты знаешь, – вдруг сказал сценарист, – может, этого и не случилось бы, не напиши я свой сценарий. Милко и Мария встретились фактически из-за меня… И она…
Его не отпускали от себя маленькое поле с неровными рядами подсолнухов и молодая женщина, лежащая на речной гальке там, где начинается трава.
– Но это же наивно, – сказал режиссер. – Давайте теперь не будем вообще снимать фильмы, потому что кто-то с кем-то может встретиться на съемках. Ну, ты и хватил!
Сценарист молчал.
– Разве ты можешь отвечать за всех? – спросил режиссер.
Он встал и принес из ванной еще одну бутылку. Прозрачная жидкость оживила бокалы, они слабо засветилась в сумраке комнаты.
– Даже если все было так, как ты говоришь, – продолжал режиссер, – не кажется ли тебе, что это слишком – из-за такого топиться? Муж изменил жене – такое в порядке вещей. Надо ли воспринимать это так трагично? Мы живем в двадцатом веке, причем в конце его. И если из-за измен все побегут топиться, не хватит водоемов.
Сценарист покачал головой.
– Дело в другом. Влюбиться и изменить может всякий.
– В чем же тогда дело, если не в любви, объясни, пожалуйста, – иронично сказал режиссер.
– Как тебе объяснить… – серьезно начал сценарист. Дело здесь в вере, понимаешь, в доверии… в тех человеческих чувствах, которые больше всего уязвимы. Разумеется, у человека чувствительного. В тех мостах, которые наводятся между людьми не физиологически, а чисто эмоционально, психологически. Понимаешь? Когда такие мосты рушатся, двое не могут прийти друг к другу. Тогда каждый остается один.
– Ты довольно образно все описал, – кивнул режиссер.
– Хочу, чтобы ты понял: для многих такое чувство – опора существования. Без него они не могут жить. Страшно, когда веришь в кого-то, когда весь мир для тебя – это другой человек, только он и ничего, кроме него нет, и вдруг понимаешь, что он с тобой даже не считается, будто тебя нет. Что ты мешаешь ему. В таких случаях действительно предпочитают исчезнуть. Хотят исчезнуть, понимаешь? Потому что кажется: жизнь кончилась. И, кроме того, вопрос, фактически, предрешен тем другим, – для него тебя нет.