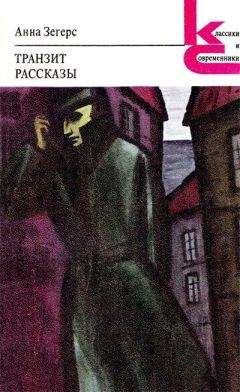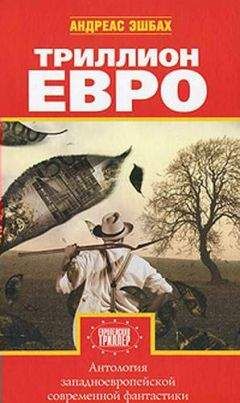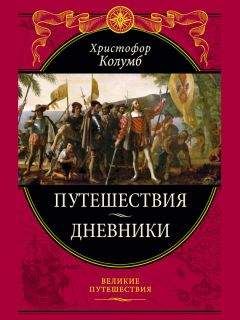Улицы кишмя кишели бездомными неграми. У них пока что не было ни господ, ни настоящей свободы. Некоторые из них уже начинали выражать свое неудовольствие такой свободой наизнанку. Они помогали поджигать дома, теперь же сами не имели даже крыши над головой. Раньше их поднимали спозаранку и, стоило им чуть замешкаться, избивали, но зато у каждого из них было сухое местечко, где можно поспать часок-другой. Им было что есть и пить – ведь иначе они не могли бы работать. Теперь их никто не заставлял работать, ко им нечего было есть, кроме гнилых фруктоз; они грызли сахарный тростник и пили сок кокосовых орехов, потому что их жгла жажда, а воду нельзя было пить – она пахла гнилью, говорили, если кто выпьет, заболеет той самой болезнью, от которой каждый день умирали десятки людей. От голода и болезней негров теперь погибало гораздо больше, чем до освобождения. Раньше, в господских имениях, они брали воду из чистых источников. Теперь их можно было видеть на любой городской улице сидящими на земле вдоль низеньких деревянных домишек; почти сплошь женщины (да еще дряхлые старики, которых не взяли в негритянское войско) – вереница головных платков и грудей, к которым присосались младенцы. Иногда проходили патрули, из того самого французского полка, что прибыл вместе с комиссарами. Им было приказано осторожно обходиться с этими странными гражданками, чьи мужья сражались за Республику. Когда какая-нибудь из. них громко вздыхала или издавала стон, то ее соседку охватывали два противоположных чувства: из страха перед смертью ей хотелось отодвинуться как можно дальше, если стон переходил в хрипение, и в то же время наклониться к больной, помочь или утешить ее.
Издалека, со стороны моря, послышался залп. Что там еще опять случилось? Михаэль Натан вышел из дому узнать, кому это помешали высадиться в гавани. Он понимал, что означают эти слоняющиеся без дела негры, эти слухи, эти залпы в порту. Это были последние попытки воспрепятствовать освобождению при помощи оружия, голода, глумления.
Михаэль закрыл за собой входную дверь, не обратив внимания на негритянку, прикорнувшую на ступеньке лестницы. Ничто в ее облике не говорило о том, что она из последних сил дотащилась до этого – и именно до этого – дома. Ведь лишь отсюда мог выйти белый юноша – если только он все еще жил здесь, – которого она однажды ночью привела на окраину города.
Ей было неизвестно, узнал ли он ее тогда. Но она, она уже давно хранила в памяти образ этого чужеземца, молодого, худощавого, молчаливого, то и дело прикусывающего нижнюю губу, с обычно лениво скользящим, но временами прямым и острым взглядом. Во время переезда с Мартиники на Гаити он наверняка не обратил на нее никакого внимания, потому что ни один белый не обращает внимания на черную девушку, затерявшуюся в толпе подобных ей рабынь. И уж тем более не заметил ее при высадке, когда его горячо, обнимал отец, а ее меняла на часы с курантами старая экономка. Он и позже не заметил ее, когда она в толпе домашних рабов встречала гостей в имении графа Эвремона.
Ей нелегко было приблизиться к Михаэлю, когда один из офицеров Туссена поручил ей любой ценой доставить Натана-младшего в условленное место. В конце концов это ей все-таки удалось. Она должна была тут же передать его другому человеку. Она потеряла его из виду. Подчас она думала о нем во временном лагере в горах, когда дождь хлестал по крышам хижин, наскоро сплетенных из ветвей, когда, плотно сбившись в кучу, беглецы дрожали от холода и сырости каждый сам по себе, согреваясь в мечтах теплом потерянного или только воображаемого друга.
И вот он вышел из своего дома, значит, он все еще жил здесь. Она была слишком слаба, чтобы заговорить с ним. Она лишь потянула его за палец, выглядывавший из кармана жилета. Михаэль удивился. Он узнал девушку, хотя ей, видимо, было давно не до забот о своей наружности и выглядела она вовсе не такой уж миловидной, какой показалась ему при первой встрече. Михаэль и вправду забыл ее в ту же ночь, как только ему стала ясна ее роль в необычайном ночном приключении. Он снова открыл дверь и впустил ее. Михаэль спросил:
– Откуда ты?
– Я сперва убежала в лес вместе с моими братьями. Теперь они в армии. А я, будь что будет, вернулась в город.
Анжела была раздосадована появлением гостьи. Она бросила девушке початок кукурузы. «На, лущи!» Она никак не могла примириться с тем, что та так бесцеремонно проникла в дом. Девушка работала слишком медленно своими привычными к шитью пальцами. Анжела швырнула ей соломенную циновку под навес во дворе. Девчонка пусть не воображает, что сможет так просто поселиться в комнате молодого хозяина. Марго стерпела и это, хотя молодой хозяин, как только приходил домой, звал свою гостью в комнату. А когда Михаэль уходил, Марго возвращалась во двор, молча свертывала неиспользованную циновку и ставила ее в угол, который предназначила для нее Анжела. Она никогда не жаловалась на работу, которая становилась все тяжелее и тяжелее. Михаэль никогда не спрашивал, как она ладит с остальными домочадцами в его отсутствие. Достаточно того, что она бесшумно проскальзывала в дверь, к нему в комнату, снова прелестная в своем свежезалатанном ситцевом платье, в новом платке с каймой. Она чинила платья его сестры, а иногда и Анжелы, которая, однако, не становилась от этого добрее.
Сестра терпеливо сносила причуды брата. Она снесла бы и худшее. Она только тихонько грустила: брат больше не открывал ей свое сердце, как раньше. А ведь это ради него осталась она на Гаити. За ним она пошла бы даже в ад. Но с этой чужеземкой брата связывало нечто такое, до чего никому больше нет дела. Между ними было что-то, что не имело ничего общего с теми мыслями, которыми он раньше делился с ней, а она глядела на него, готовая бесконечно его слушать. Ее сердце сжималось, когда она видела их вместе, он разговаривал с девушкой так же, как с ней самой, когда они оставались вдвоем, но ему казалось, что он один. Теперь ему уже не казалось, что он один, хотя мга девушка умела молчать так же, как до сих пор умела только сестра. Эта девушка слушала его по-другому и смотрела на него тоже по-другому. Будто оба видели перед гобой одно и то же. Когда они собирались все вместе, Мали только молча смотрела на брата, о чем бы он ни говорил. А черная девушка осмеливалась даже отвечать ему. И ему правилось то, о чем она говорила. Его взгляд светлел, пока звучали ее слова. Потом оба умолкали, как будто задумывались об одном и том же.
Марго по-прежнему день-деньской беспрекословно выполняла самую тяжелую работу. Она работала даже ночью, если ее друг возвращался поздно. Чем более гневно отдавались приказания, тем безропотнее она повиновалась, словно считала бессмысленным нарушать покой в доме. Мали сперва не удостаивала ее своим вниманием. Но по мере того, как ревность все больше и больше ожесточала ее, она стала изводить девушку бесчисленными приказаниями. Марго не перечила ей. Она не жаловалась и Михаэлю. Как ни старалась Мали, она не могла добиться от псе и слова упрека. Время между уходом и приходом Михаэля как будто вовсе не существовало для девушки.
Становилось легче, когда он рассказывал о том, что происходит вокруг. Туссен сдержал свое слово. Гаити остался под трехцветным флагом Республики. Здесь, на острове, его багрянец пылал еще краснее, его синева стала еще синее, его белизна сверкала еще белее. Без Туссена комиссары не могли бы держать в страхе врагов Республики. Он повсюду вводил в бой свои войска, молниеносно перебрасывая их с одного места– на другое, согласно своим замыслам, которые то и дело рождались в его внезапно проснувшемся уме, словно его молодая сила и не думала убавляться, сколько бы он ее ни расходовал, сколько бы разочарований и сомнений он ни испытал. Революция в Париже находила нужного ей человека на каждом этапе. Здесь, на Гаити, это был один и тот же человек на протяжении всех этапов. Революция меняла своих комиссаров. Туссен умел ладить с каждым. Он пережил и якобинскую диктатуру, и падение Робеспьера, и переворот Наполеона.
Молва о нем на острове некоторое время была разноречива и двойственна, словно этот человек воплотил в себе черты различных людей и о каждом из них шла своя особая слава. Даже негры не всегда радовались его триумфу.
Они и сами порой сомневались, все ли тут ладно. Они привыкли видеть себя рабами, с которыми обращались хорошо или плохо, а блеск и могущество считали привилегией белых. Даже в маленьком доме Михаэля разноречивая молва об этом человеке вызвала немало толков.
– А все же говорят, он кровожаден, он будто бы все жжет и убивает. Ведь какую резню он устроил, когда подавлял восстание мулатов, – не то чтобы утвердительно, а скорее вопрошая сказала Мали.
– Не может он сразу поспеть во всем, – ответил Михаэль. – Он должен был победить их, и вот они побеждены. Теперь он покажет; как он представляет себе свою республику.