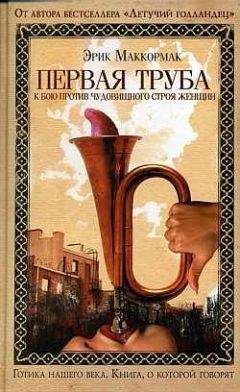– Что-нибудь еще от меня нужно? – спросила она. Говорящая рептилия.
– Нет. Можешь умываться, – ответил он.
Она двинулась к душевой кабинке, а художник склонился над своим ящиком. Загудели трубы, и когда модель вернулась, она вытиралась на ходу полотенцем. Краска исчезла, а с ней – и помада, и тени для век. Волосы прилипли к ее голове, и девочка выглядела еще мо ложе, чем прежде. Она оделась, получила свою плату, и вскоре свет погас, а номер опустел.
Я вернулся в постель и быстро уснул. Мне пригрезилось, будто я вернулся в Стровен и купаю огромную ящерицу. Все ее краски линяют, окрашивая губку, и под смытыми красками я вдруг вижу мамино тело. При виде его я возбудился, а от возбуждения проснулся и тут же заплакал. Я был потрясен и пристыжен: во сне я осквернил память мамы. Усталый, опустошенный, я уснул вновь и спал, пока мой сон не прервали гудки потянувшихся по реке буксиров, возвещавшие новый трудовой день. И конец моего пребывания в отеле «Блуд».
Долгое плавание по морю подобно плутовскому роману. Начинается с отдачи швартовых, а заканчивается возвращением в гавань. И между этими двумя мгновениями – полная неопределенность.
Дж. БаллантайнПароход «Камнок» стоял у южного берега реки, носом к морю. По пути вдоль причалов я миновал множество облезлых сухогрузов, и «Камнок» показался мне таким же убогим, как и все остальные. Он имел форму подпорки для книг: длинная пустая палуба, а на корме – рубка и остальная надстройка с каютами экипажа. Ветер подхватывал ошметки грязного дыма, валившего из трубы, и нес их к берегу, где они таяли в городском смоге. Корпус корабля, с пятидесяти ярдов прикинувшийся прочным и мореходным, вблизи оказался ржавым насквозь. Вокруг носа в корпусе были щербины и вмятины, словно пароход трепала огромная псина.
От негромкого рокота двигателей трап под моими ногами содрогался. Пожилой моряк, которого я, похоже, нисколько не интересовал, проводил меня вниз по другому узкому трапу в каюту, узкую и душную, с низкой шконкой и лампочкой в клетке-абажуре под самым подволоком. Небольшой иллюминатор выходил на склады и закопченные трущобы. На переборках и подволоке лущилась эмаль, сыпалась клочьями.
На прощанье моряк хмуро посоветовал не путаться под ногами до отхода, так что я сидел в каюте и следил за происходящим в иллюминатор. Сначала и смотреть-то было не на что, но около полудня двигатели зарокотали ниже, трап подняли на борт, а швартовая команда на причале отдала концы. Содрогаясь и рокоча, пароход медленно отвалил от стенки.
Несколько швартовщиков остались стоять, глядя нам вслед, и я помахал им рукой, но если кто и заметил мальчишку, махавшего в иллюминатор на корме, ответить никто не удосужился. Еще мгновение – и мужчины развернулись и пошли к одному из складов.
Больше никому, судя по всему, и дела не было до «Камнока», который медленно прокладывал себе путь по реке. Причал быстро скрылся из виду, затем отступили и стоявшие у самого берега склады, высокие краны, верфи, скученные дома Города. Трудно было разобрать что-либо, кроме общих очертаний, поскольку, несмотря на ветер, туман так и висел, и «Камноку» пришлось включить сирену, от которой корпус дрожал пуще прежнего. Порой проходящий буксир или поднимавшийся по реке пароход отвечали ему гудком.
К трем часам дня река сделалась такой широкой, что лишь отдельные яркие огни, прорезавшие туман, подтверждали: мы все еще идем меж ее берегов. Серый сумрак утомил глаза, и я прилег на койку и немного вздремнул. Около шести я проснулся и заметил, что движение корабля изменилось. В иллюминаторе плескалась кромешная тьма, но по тому, как вздымался, напрягая все силы, корпус, я угадал, что берега «Камнок» больше не защищают. Мы вышли в открытое море.
Я сильно оголодал и уже призадумался, дадут ли когда-нибудь поесть, но тут в каюту постучали и кто-то хрипло выкрикнул:
– Обед готов.
Первый визит в кают-компанию парохода навсегда врезался в мою память. Не только потому, что качка начала отдаваться у меня в животе; и не потому, что посадили меня за столик со вторым пассажиром – чем-то озабоченной старушкой, изредка шептавшей себе поднос на непонятном языке, причем одета она была в длинное, почти до полу, зеленое платье с узором из увядших желтых цветов; и не потому, что собравшиеся за длинным столом в дальнем конце кают-компании седые, старые моряки показались мне злыми и неприветливыми, за исключением того бородача, который накрывал на стол; и даже не из-за самого ужина – тушеной, сладко пахнувшей говядины, хотя в Стровене я и не привык к подобным ароматам.
Сами по себе все эти подробности были весьма любопытны, однако нечто другое поразило меня.
Мы все принялись за еду (впрочем, я лишь притворялся, будто ем, попробовал картофелину-другую, но брезгливость оказалась сильнее голода), и тут раздвинулась скользящая дверь. Сперва я не мог разглядеть вновь прибывшего, поскольку он остановился в коридоре, беседуя с кем-то, и на ступеньке у входа показалась только его правая нога. Обшлаг брючины слегка задрался над черным ботинком, обнажая темный носок, на котором желтые змеи обвились вокруг якоря. Закончив разговор, мужчина вошел в столовую. Он был крепко сбит, светловолос, одет в морской китель, а фуражку держал под мышкой.
Он задвинул за собой дверь и, не оглядываясь по сторонам, прошел к маленькому столику в углу. Бородач, обслуживавший всех нас, поднялся из-за длинного матросского стола и подошел к нему.
– Добрый вечер, капитан Стиллар. Желаете чем-нибудь утолить жажду?
Так я узнал имя таинственного художника, который раскрашивал женщин в отеле «Блуд» – Стиллар, капитан «Камнока».
Мы шли в тропики, но первые дни рейса были отнюдь не тропическими. Свинцовые небеса, северный ледяной ветер, набухшие волны, серая пена. И дождь, дождь, дождь. А мне было плохо, плохо, плохо. Два дня я пролежал в каюте и не съел ни крошки. В первую же ночь на борту желудок начал бунтовать, и хоть я сразу же изверг несколько кусочков картофеля, которые успел проглотить, стоило приподняться – и рвотные позывы начинались снова.
Я лежал, распростершись на спине, меня слегка лихорадило, и при этом я все думал, что за странный человек – капитан корабля, и как странно проходит время на борту: час тянется за часом, день за днем, но судно с тем же успехом могло бы стоять на якоре вне видимости берега, и все наше продвижение вперед могло оказаться всего лишь иллюзией, порожденной качкой. Все мы на «Камноке», думал я, – жители городка, с той лишь разницей, что наши корни уходят в воду. Но к тому времени я уже знал о жизни достаточно, чтобы понимать: вряд ли даже такие города, как Стровен, чьи корни глубоко вросли в землю, сулят большую стабильность, нежели это судно, затерянное в безбрежном океане.
К утру третьего дня плавания мне стало лучше, хотя желудок все еще не позволял мне подняться. В девять утра кто-то постучал в мою дверь. Вошел тот матрос, который подавал еду за ужином. У него были очень густые кустистые брови, а длинные седые волосы торчали дыбом.
– Доброе утро! – приветствовал он меня. – Я – Гарри Грин, к вашим услугам. Отдохнуть я тебе дал. Давай-ка теперь на тебя посмотрим.
На нем был белый фартук, и он принес мне маленький поднос, накрытый салфеткой. Теперь поднос он отставил и пощупал мой лоб.
– Весла господни! – сказал он, сердито сдвигая брови. Необычная божба меня слегка испугала. – Так, – заявил он. – С этой лихорадкой нужно что-то делать.
Пока моряк скармливал мне таблетки с подноса, я заметил на правой руке у него разноцветную татуировку – якорь с подписью «Алспога Spei». Он поймал мой взгляд и сообщил, что татуировку он сделал только что, перед выходом в море, слова эти – латинские, а означают «Якорь Надежды». Еще он сказал, что скопировал рисунок со старой книги, которую прихватил с собой в рейс. Чем больше он говорил, тем менее грозным казался. Пробыл он у меня с час.
То был первый из множества часов, которые я провел с Гарри Грином, стюардом и лекарем парохода «Камнок». После того как я поправился, он продолжал навещать меня пару раз в день, чтобы поболтать. Спешить ему, похоже, было совершенно некуда. Он рассказывал мне о других своих рейсах, о книгах, которые читал.
Мне нравилось его слушать, хотя поначалу я держался настороже. Мама приучила меня к мысли, что словам доверять нельзя. Она старалась говорить поменьше, как будто слова – лишь остаток того, что некогда имело смысл как целое, а ошметки только вводят нас в заблуждение, и посему их следует избегать.
Но Гарри Грин любил поговорить. Чаще всего он наведывался ко мне по вечерам, закончив работу на камбузе. Он приносил большую кружку грога и, отпивая по глоточку, произносил очередной монолог.
Я не могу привязать наши разговоры к определенным дням. Все дни долгого пути смешались в моей памяти. Зато я помню многие высказывания Генри, поскольку они произвели на меня сильное впечатление.