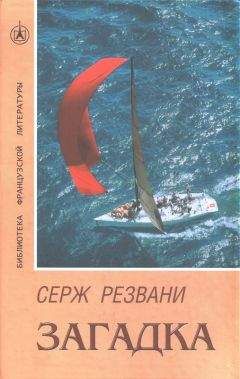— Подождите, подождите! — прерывает его Следователь. — Карл Най, случайно ли, не морочил вам голову? Я прекрасно помню, что когда в Морском клубе он хотел посмеяться над кем-то из своих детей или приглашенных, то именно в мифах, по его словам, находил подходящие примеры. Честно говоря, мне всегда казалось, что у него больше развито воображение, чем память.
— Однако то, что он говорил о Царе, которого принесли в жертву на священной горе, совершенно верно, — продолжает Литературовед. — Карл Най, рассказывая о свергнутом Царе, видел в нем себя. Честно говоря, в семье он ощущал себя свергнутым царем или богом. Каждую строчку, написанную его братом, одним из сыновей или дочерью, он воспринимал как посягательство на свое господство.
— И все-таки вы не думаете, — настойчиво переспрашивает Криминолог, — что Карл Най морочил вам голову? Хорошо известно, что когда автор находит достаточно наивного исследователя, то не может отказать себе в удовольствии запудрить ему мозги. Вы действительно считаете, что, прячась за мифами, он не пытался завлечь вас в пучину и не выстрелить в вас, идущего ко дну литературоведа, из автоматической винтовки?
— Понимаете, — говорит Следователь, — поскольку мы часто присутствовали то на спуске на воду очередного «Урана», то на праздниках, которые он устраивал в Морском клубе в честь счастливого возвращения из круизов, то нам всегда казалось, что Карл Най злоупотреблял своим истинным — или ложным — знанием мифов, чтобы своей эрудицией и заумными речами отсечь всякую возможность общения с такими нормальными людьми, как мы. Таким оригинальным способом он выказывал нам свое скрытое презрение. С ним нужно было пить и слушать.
— Да, — подтверждает Литературовед, — Карл Най всегда немного с презрением относился к людям. Я даже думаю, что в душе он презирал и самого себя или же настолько сомневался в себе, что был вынужден мысленно принижать всех окружающих. Однако я понял происхождение этого горделивого сомнения. Постепенно, слушая его рассказы, я увидел, в чем причина его сомнений и гордости. Всю свою жизнь он бился головой о стенку.
Литературовед на минуту замолкает, чтобы закурить сигарету.
— Этой стеной был Юлий. Несмотря на славу, книги, рецензии, статьи критиков на всех языках, он всю жизнь бился лбом о стенку под названием Юлий. Между братьями стояла не только страшная тайна, которую я почти разгадал этой ночью… я говорю почти, так как эта тайна находится в их сочинениях, словно банковская квитанция, разорванная пополам и тайно выданная в знак признательности двум неизвестным. Карл понял настоящую литературную ценность произведений Юлия и от этого невыносимо страдал. В один из моментов, — а мы по-прежнему находились на пляже в Палсе, — он остановился и на этот раз своей тростью написал на влажном, блестящем от убежавшей волны песке имя Юлия. Он сжал мою руку и долго смотрел, как набегающая волна постепенно стирает имя брата и песок снова становится таким же гладким, как и прежде. Подождите, это не всё! Затем он написал имена Курта, Розы, Франца, Густава Зорна и, наконец, свое и Лоты. И снова схватил меня за руку и сильно сжимал ее до тех пор, пока море не слизало все имена с мокрого песка. «Видели, — спросил он, — здесь все герои вашей книги». — «Да», — ответил я. — «Вам действительно они нужны?» — «Лишь в той степени, чтобы мое исследование оставалось чисто литературным». Он рассмеялся: «Чисто? Вы прекрасно знаете, что чистых исследований не бывает. Любое исследование уже нечистое, — сказал он, продолжая рисовать на песке странные знаки. — А любое литературное исследование строится на письменных останках. Точно так же, как нужно прикоснуться рукой к трупу, чтобы препарировать его, или купить кошку какому-нибудь гадкому мальчишке, чтобы он произвел над ней вивисекцию, так и ваше исследование может быть не чем иным, как литературной бойней, причем более близкой к вивисекции, чем к препарированию. Почему бы вам не дождаться моей смерти? Я — старый человек, моя жена намного моложе меня. Неужели вам трудно дождаться, когда меня похоронят? Для вдовы писателя нет лучшего развлечения, чем вспоминать об отсутствующем! Отсутствие наполняется словами, и это так естественно. А рассказы вдов воспринимаются с гораздо большим доверием, нежели слова живого писателя». Некоторое время мы молча шли по пляжу, как вдруг Най сказал: «Мне не нравится ваша книга. Мне она не нравится заранее!» И, не выпуская моей руки на манер старых, слишком экспрессивных итальянцев, он потащил меня в небольшую cantina в новом порту. «Садитесь, — пригласил он, — и давайте-ка выпьем. У меня здесь назначена необычная встреча, и я хотел бы, чтобы вы на ней присутствовали. Наблюдайте, но ничего не говорите. У меня здесь встреча с будущим… и, как вы позднее поймете, с прошлым — невыносимо ужасным прошлым. Выпьем! Послушайте, — сказал он, когда за первой бутылкой последовала вторая, — как исследователь вы мне вовсе не антипатичны. Вы молоды и даже кажетесь слишком умным. Мои дети, брат — все с усердием пишут, и это, уверяю вас, раздражает меня больше всего. Даже Лота пишет тайком дневник. Все пишут дневники, стихи, рассказы и, ко всему прочему, еще и романы! Вы читали последнюю книгу Юлия?» Я не знал, — продолжает Литературовед, — стоит ли говорить ему, как я восхищаюсь всеми творениями Юлия. И что именно из-за восхищения Юлием я стал читать и его, Карла, книги, а также книги Курта и Розы, а позднее — необычные философские эссе Франца.
— И что же вы ему ответили? — спрашивает Поэт-Криминолог.
— Как подсказывает мой опыт, он, конечно, промолчал! — восклицает Следователь.
— Вовсе нет, — отвечает Литературовед. — Наоборот, я поспешил вонзить первую стрелу: «Я бесконечно восхищаюсь произведениями вашего брата», — сказал я, наливая себе выпить. Он немного помолчал и сдавленным голосом произнес: «Бесконечно, говорите?» — «Да, уверяю вас…» — «Ладно…» Мы продолжили пить в тишине. «А как вы относитесь к творчеству Курта? Только не говорите, что вы им тоже бесконечно восхищаетесь!» — «Скажем, я его высоко ценю». — «Неужели?» — «Да, высоко». Заказав еще одну бутылку, он произнес на этот раз еле слышным голосом: «А что вы думаете о сочинениях моей дочери Розы?» Я посмотрел ему в глаза и вонзил третью стрелу — самую ядовитую, в самое уязвимое место. «Не считая Карсон Мак-Калерс[2], Роза, без сомнения, самая крупная…» — «О, не надо, — сразу же прервал меня он, — вы прекрасно знаете, что нет женщин-писательниц… Сочинения женщин бесполезны». — «Я с вами не согласен, — возразил я. — Ваша дочь заткнет за пояс большинство современных писателей».
— Вы так действительно думали или хотели его подразнить?
— Это была стрела, бандерилья. Но я на самом деле считаю, что Роза — большой писатель, хотя никто не может определить, где начинается «большая» литература.
— Согласен, — кивает головой Поэт-Криминолог, — то же самое я говорил недавно по поводу преступлений. «Преступление» всегда присутствует в любом новаторском сюжете.
— Послушайте, — начинает нервничать Следователь, — давайте-ка вернемся в cantina, где вы выпивали со стариком Найем. Так кто же должен был прийти к нему на встречу?
— Это была странная встреча. Вдруг в зал вошла женщина с петухом под мышкой. Она была одета в лохмотья и походила на одну из пьянчужек, которых полно в портовых романах. Так вот, эта женщина села за наш столик и, отпустив петуха, к лапе которого была привязана веревка, спросила у старика Найя, не нуждается ли он сегодня в ее услугах. «Я всегда нуждаюсь в тебе, и ты это знаешь! На, выпей!» И, положив на стол стопку купюр, он, немного с сарказмом, приказал ей продолжать с того места, где она остановилась, рассказывая «будущий роман моей жизни». И эта женщина фазу же начала говорить ему ужасные вещи, интерпретируя движения клевавшего петуха, которому она бросала крошки.
— Что вы подразумеваете под ужасными вещами? — спрашивает Следователь.
— Она всего лишь сообщила ему о семейной драме.
— Что?! Как это? — одновременно воскликнули Поэт-Криминолог и Следователь.
— Да, это были ее слова: семейная драма.
— Вы уверены? И вы только что об этом вспомнили?
— Постойте, постойте! Я не могу рассказать обо всем сразу. В моей книге полно подобных случаев. Как заманчиво после происшествия интерпретировать некоторые события! Карл Най все время консультировался с ясновидящими и магами: в Гранаде — с цыганами, в Нью-Йорке — с бенгальским индийцем, в Берлине — с женщиной, чья семья исчезла в каких-то монгольских степях и теперь ей поступали оттуда странные сообщения.
— Ладно, так что было дальше с женщиной с петухом?
— Она пила стакан за стаканом и то и дело ударяла ногой петуха. Най без конца подливал ей. И она болтала. Позднее, когда мы с трудом плелись к дому, где нас ждала Лота, он сделал странное признание: «А знаете, что эта жуткая старуха диктует мне то, что я пишу? Эта старая Парка ткет в некотором роде судьбы тех, о ком я рассказываю в книге, над которой сейчас работаю». Он не был пьяным, но все-таки от вина его разобрало, впрочем, как и меня. Поэтому сегодня мне тяжело отделить свои воспоминания от впечатлений.