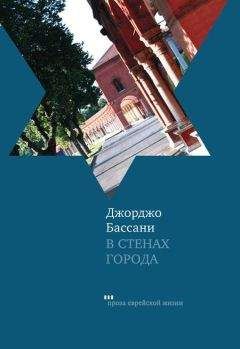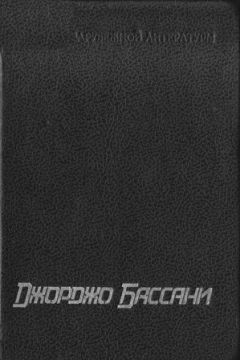Наступил май.
В последние дни терпение Оресте внезапно иссякло. Он вдруг начал проявлять тревогу и беспокойство. В течение многих лет довольствовавшийся обещаниями будущей свадьбы, даже не выраженными на словах, соглашавшийся на любую отсрочку, он теперь был охвачен нетерпением. Раньше на брак между ними он намекал редко. А теперь, напротив, желал, чтобы это произошло как можно скорее, не хотел терять даже дня и считал, что лучше приблизить дату церемоний.
Удивившись, Лида спросила у него о причине этого изменения.
Он посмотрел на нее, ничего не ответив, с отчаянием в глазах. Затем тихо промолвил: «Я вроде тех лошадей, которые на финише срываются на галоп».
Он заговорил о бракосочетании и о том, как он себе это представляет. Сказал, что рассматривает брак как наивысшую цель своей жизни; женившись, он сможет обрести смелость вымолить для них обоих защиту божественного Провидения. Он сказал, что если он ее никогда прежде не торопил, то это происходило оттого, что он чувствовал, что может надеяться только на собственные силы.
Лида его слушала, но не понимала. Но ей достаточно было в какой-то миг поднять глаза на него, как вдруг она осознала: он все еще боялся потерять ее! Она положила свою ладонь поверх его руки; мгновением позже она оказалась у него в объятиях, впервые.
Последующие годы были спокойными и счастливыми. Годы труда. И если не сказать счастья, то уж верно благополучия. Во всяком случае, зим, подобных той, 1929 года, они больше не видели; и еще меньше их видел Оресте, который умер рано: весной 1938 года.
В конце осени он частенько останавливался, как и прежде, перед окнами, наблюдая за погодой. Но не оттого, что сомневался — в этом можно быть уверенными — в точности своих прогнозов, теперь почти неизменно обещавших устойчивую хорошую погоду, а скорее чтобы снова испытать тайное удовольствие, которое доставляло ему владение этим новым, современным домом, где было все необходимое для скромной и достойной жизни, включая даже новейшую систему центрального отопления.
Будущее ему улыбалось (еще бы — казалось, хочет он добавить, — иначе и быть не может). После бракосочетания Лида сразу же привыкла к его набожности и начала усердно посещать расположенную неподалеку, по ту сторону городских стен, церковь Сан-Бенедетто. Она располнела, похорошела. Худая девушка, терзаемая тревогами, которую он знал много лет назад, когда начал бывать в той самой комнате на улице Салингуэрра, превратилась постепенно в тихую красивую женщину, спокойную, полноватую. Так что ж еще желать ему теперь? Что может быть лучше?
Иногда на тему красоты Лиды они вместе шутили.
Не такая недоверчивая, как ей хотелось казаться, она скромничала:
— Это я-то красивая?
— Еще какая! — отвечал он, улыбаясь и с гордостью глядя ей в глаза.
— И тем не менее, продолжал он уже серьезно, удивляться нечему. Эта ее новая красота, уместная и естественная, красота жены, которую в глубине души он считал отчасти и своей заслугой, доказывала (если была в этом необходимость), что Господь одобрил и благословил их союз.
IX
— Он был счастлив, — иногда говорила себе Лида.
Но сразу же, как будто бы искаженное внутренним отзвуком, это утверждение превращалось в вопрос, полный сомнений и болезненной зависти, вопрос, на который никто, и тем более она, не мог ответить иначе как отрицательно.
Бедный Оресте. Он тоже не был счастлив, нет, конечно, кое-чего ему всегда не хватало для счастья. И доказательством тому служила та нежная забота — более нежная, чем родительская, — которую он в течение многих лет, во все годы их совместной жизни, проявлял по отношению к Иренео.
Когда Иренео с аттестатом о неполном среднем покинул семинарию, Оресте взял его к себе в мастерскую, где между станком для обрезки и стеклянной дверью специально для него устроил маленький верстак. Хотел обучить его своему ремеслу: и Лиде, когда она порой в предвечерний час шла через полгорода в мастерскую на улицу Салингуэрра (возвращались они потом домой вместе, поднимаясь под руку вверх по улице Джовекка или по улице Мадзини, проходя через центр, мимо «Биржевого кафе»), — ей казалось еще, что она видит Оресте в тот момент, когда он из-за своего большого верстака, с горящим взором и душевным прилежанием, словно наседка, хлопочущая над птенцом, обучал своего ученика, полную противоположность себе — нерадивого, часто отвлекавшегося на пустяки, происходившие за окном, там, на площади перед мастерской. Ей казалось, что она его видит и слышит: такого, каким он был, с мощным туловищем, несоразмерным с длиной ног, сидящего за своим станком, с руками крупными и твердыми, странным образом облагороженными золотым обручальным кольцом (он его не снимал никогда, даже в 1935 году, во времена санкций!); с голосом сильным, веселым и звонким… Как же он должен был бороться с собой, чтобы она, Лида, не заметила его желания иметь ребенка! Как же его это волновало, если он подавлял это в себе, каким же было для него наказанием, если он в какой-то момент решил, что Иренео должен носить его имя!
И все-таки она была уверена: Оресте никогда не отчаивался. Чтобы утвердиться в этом, ей было достаточно вспомнить его взгляд, каким он встречал ее каждый раз, когда она входила в мастерскую: взгляд вопросительный, но спокойный, преисполненный несокрушимой веры.
Если не сейчас, говорил его взгляд, то скоро она придет к нему с важной новостью. Она, конечно, подарит ему ребенка, который будет его собственным, будет отличаться, конечно, по внешности и характеру от того, другого ребенка, родившегося у Лиды до брака, который, хотя он и дал ему свое имя, хотя передавал свое мастерство с той же страстью, с какой мог бы его передать своему родному сыну, несмотря ни на что, никогда не называл его иначе, как «дядя Оресте».
Собственное дитя, думала Лида, — вот то, чего ему не хватало, та единственная тень, которая омрачала спокойствие их супружеской жизни.
Чтобы снова заговорить о золотом веке, возвращение которого в феврале 1929 года он предсказал, конечно же, он ожидал услышать от нее слова: «Я беременна».
Было не менее очевидно, однако же, что смерть, забрав его так внезапно, помешала возникнуть в его душе всякому намеку на разочарование.
Прогулка перед ужином
Пер. Мария Челинцева
I
И сегодня случается, бродя по феррарским лавочкам, натолкнуться на старые открытки почти вековой давности. Пожелтевшие, покрытые пятнами, часто почти неразличимые городские виды. На одной из таких открыток мы видим проспект Джовекка, главную улицу города, как он выглядел во второй половине XIX века. Справа из тени, подобно декорации, выступает контрфорс городского театра, а золотистый весенний предзакатный свет, столь характерный для Эмилии[7], целиком сосредоточен в левой части изображения. С этой стороны постройки низкие, в два этажа, крытые крупной бурой черепицей, внизу — мелкие заведения (закусочная, лавка угольщика, мясная лавка и так далее): все они в 1930 году, на восьмом году «фашистской эры», когда почти напротив городского театра решили возвести огромное здание страховой компании из белоснежного римского травертина, были безжалостно снесены.
Открытка сделана по фотографии. Поэтому она вполне в состоянии передать то впечатление, которое производил вид проспекта Джовекка в конце XIX века (широкая проезжая дорога, довольно бесформенная, мощенная необработанным булыжником, подходящим скорее для сельского тракта долины реки По, чем для главной улицы столицы провинции, разделенная посередине тонкими параллельными полосами трамвайных путей), но не дает ощутить биение жизни, которая в тот момент, когда фотограф нажал на спуск затвора, полным ходом разворачивалась вдоль всего проспекта: от угла кафе «Гран Дзампори», справа, в нескольких метрах от того места, где был установлен штатив, и до дальнего розового, залитого солнцем фронтона Перспективы[8] в конце проспекта.
Передний план картины переполнен деталями. Можно разглядеть мальчика-слугу, ковыряющего в зубах на пороге цирюльни; собаку, обнюхивающую тротуар перед входом в мясную лавку; бегущего через перекресток слева направо школьника, чудом не попавшего под колеса экипажа; немолодого господина в рединготе и котелке, поднявшего руку, чтобы отодвинуть занавеску, защищающую помещение кафе «Дзампори» от избытка света; великолепный экипаж, запряженный четверкой лошадей и направляющийся резвой рысцой в сторону так называемого «подъема к Замку». Если же, прищурившись, вглядеться в центральную часть открытки, запечатлевшую дальний конец Джовекки, изображение расплывается (люди и вещи теряют очертания, растворяясь в пыльной светящейся пелене) — и становится понятно, почему девушка лет двадцати, в тот самый момент быстро шагавшая по левому тротуару метрах в ста от Перспективы, не оставила нам, сегодняшним наблюдателям, ни малейшего свидетельства своего присутствия, своего существования.