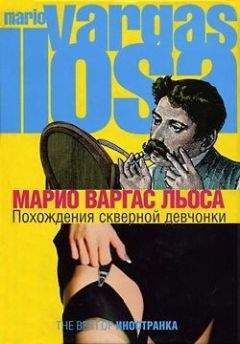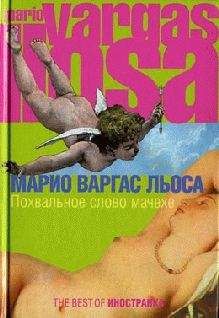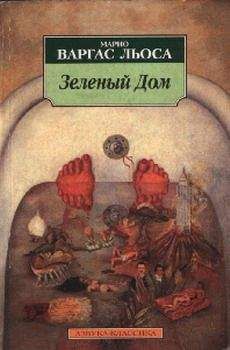До встречи в аэропорту Кеннеди, или прощай навсегда, Лукре.
Модесто (Плуто)».
Дона Ригоберто охватила дрожь. Что ответила ему Лукреция? С негодованием отвергла возмутительное предложение? Или поддалась соблазнителю? В молочном утреннем свете дону Ригоберто померещилось, что картины на стенах ожили и вместе с ним с тревогой ожидают развязки.
Повеления изможденного путника
Это приказ твоего раба, любимая.
Ты ляжешь ничком перед зеркалом на кровать, покрытую расписанными вручную шелками из Индии или индонезийским батиком с нарисованными круглыми глазами, нагая, разметав по подушкам длинные черные волосы.
Ты согнешь в колене левую ногу. Склонишь голову на правое плечо, разомкнешь губы, сожмешь правой рукой край простыни, опустишь ресницы и притворишься спящей. Вообразишь, что с потолка на тебя льется дождь из разноцветных бабочек и рассыпается вокруг золотой пылью.
Кто ты?
Естественно, Даная Густава Климта [29]. Не имеет значения, кто на самом деле позировал для этого полотна (1907-1908); художник видел тебя, догадывался о тебе, предчувствовал твое появление на свет спустя полвека, по другую сторону океана. Он писал героиню древнего мифа, а получилась женщина из будущего, любящая супруга и нежная мачеха.
В тебе, как ни в одной другой женщине, дивная пластика, присущие лишь ангелам легкость и чистота соединились с земным богатством форм. Я преклоняюсь перед упругостью твоих грудей и тяжестью бедер, прославляю твое лоно, этот о двух колоннах храм, под сенью которого я готов покаяться и принять любое наказание за свои грехи.
Ты одна властна над моими чувствами.
Бархатистая кожа, сладкий сок диких трав, неувядающая красота, проснись, посмотрись в зеркало, скажи: «Я любима и почитаема, как никакая другая, я прекрасна и желанна, как прохладная влага для изможденного путника, бредущего по пустыне».
Лукреция-Даная, Даная-Лукреция.
Это мольба твоего господина, о моя рабыня.
– Моя секретарша позвонила в «Люфтганзу»: твой билет ждет тебя, – сообщил дон Ригоберто. – Туда и обратно. Первым классом, как и было обещано.
– Милый, я правильно сделала, что показала тебе письмо? – встревожилась донья Лукреция. – Ты не сердишься? Мы ведь поклялись ничего друг от друга не скрывать, вот я и решила, что ты должен знать.
– Все верно, моя королева, – торжественно произнес дон Ригоберто, целуя руку своей супруги. – Я хочу, чтобы ты поехала.
– Ты хочешь, чтобы я поехала? – Донья Лукреция недоверчиво улыбнулась, помрачнела и снова улыбнулась. – Серьезно?
– Это моя просьба, – повторил дон Ригоберто, целуя ей пальцы. – Сделай это для меня. Право же, почему бы и нет? Программа, конечно, весьма вульгарна и отдает вкусом нуворишей, однако ни в воображении, ни в чувстве юмора твоему инженеру не откажешь, а для его круга это редкость. Ты отлично проведешь время, дорогая.
– Даже не знаю, что сказать, Ригоберто, – взволнованно проговорила донья Лукреция. – Это очень любезно с твоей стороны, но…
– Я это делаю из эгоистических соображений, – признался ее супруг. – Согласно моей философской концепции, эгоизм – подлинная добродетель. Благодаря твоему путешествию я получу новый опыт.
По глазам и голосу дона Ригоберто Лукреция поняла, что он говорит серьезно. Женщина отправилась в путешествие и на восьмой день вернулась в Лиму. В аэропорту Корпак ее встречали муж с огромным букетом, завернутым в целлофан, и Фончито, который держал плакат «С возвращением, мамочка!». Оба нежно расцеловали ее, дон Ригоберто, чтобы помочь жене справиться с волнением, забросал ее вопросами о погоде, таможне, разнице во времени и джетлаге [30], старательно избегая чувствительных тем. По дороге в Барранко донья Лукреция получила подробный хронологический отчет о делах в конторе, школьных успехах Фончито, а заодно о меню всех завтраков, обедов и ужинов за время своего отсутствия. Дом сиял чистотой. Хустиниана, не дожидаясь конца месяца, перемыла окна и подстригла живые изгороди в саду.
Вечер ушел на распаковывание чемоданов, ответы на звонки подруг, жаждавших узнать, как прошла поездка за покупками в Майями (такова была официальная версия) и прочую рутину. Донья Лукреция раздала подарки мужу, пасынку и домработнице. Дону Ригоберто достались французские галстуки и итальянские рубашки, а Фончито пришел в восторг при виде джинсов, кожаной куртки и спортивного костюма. Хустиниана примерила поверх фартука лимонно-желтое платье и осталась им вполне довольна.
В тот вечер дон Ригоберто, против обыкновения, не стал долго нежиться в ванне. В спальне было сумрачно, тусклый ночник освещал лишь две классические гравюры Утамаро [31], на которых широкоплечий мужчина и хрупкая женщина в широких кимоно цвета грозовых туч совокуплялись среди циновок, бумажных фонариков и крошечных фарфоровых чашек на фоне пейзажа с кривым мостом над изогнутой рекой. Донья Лукреция лежала под одеялом, не нагая, а завернутая в новый шелковый пеньюар, – купленный и опробованный во время путешествия? – достаточно широкий, чтобы скрыть соблазнительные изгибы тела. Дон Ригоберто обнял жену и крепко прижал к себе, чтобы почувствовать ее всю. Потом он принялся с ненавязчивой нежностью целовать ее лицо, медленно приближаясь к губам.
– Если ты не захочешь рассказывать, я пойму, – солгал он, лаская ей ушко кончиком языка и тщетно пытаясь скрыть нетерпение за ребяческим кокетством. – Расскажи то, что хочешь сама. Или даже вообще ничего.
– Я все тебе расскажу, – пробормотала донья Лукреция, отвечая на его поцелуй. – Разве не за этим ты меня отправил?
– И за этим тоже, – признался дон Ригоберто, целуя ей шею, лоб, нос, подбородок и щеки. – Ты хорошо провела время? Тебе понравилось?
– Хорошо я провела время или нет, зависит от того, что теперь будет между нами, – резко произнесла Лукреция, и дон Ригоберто понял, что ей страшно. – Я веселилась. Наслаждалась жизнью. И боялась до смерти.
– Боялась, что я стану злиться? – Теперь дон Ригоберто ласкал соски жены кончиком языка, чувствуя, как они твердеют от его поцелуев. – Устрою тебе сцену ревности?
– Я боялась причинить тебе боль, – ответила донья Лукреция и обняла мужа.
«Она начала возбуждаться», – решил дон Ригоберто. Он ласкал жену, из последних сил сдерживая готовое поглотить его желание, и шептал ей на ушко, что любит ее, любит куда сильнее, чем прежде.
Донья Лукреция начала свой рассказ, медленно, тщательно подбирая слова – долгие паузы выдавали ее смущение, – но вскоре разоткровенничалась, ободренная нежностью супруга. Постепенно женщина совсем успокоилась, и рассказ потек плавно. Донья Лукреция прильнула к мужу и положила голову ему на плечо. Ее рука тихонько скользила по животу дона Ригоберто, неспешно приближаясь к самому низу.
– Твой инженер сильно изменился?
– Он стал одеваться как настоящий гринго и все время сыпал английскими словечками. И все же, несмотря на лишний вес и седину, это был прежний Плуто, робкий и рассеянный, с унылым вытянутым лицом.
– Представляю, что сделалось с этим Модесто, когда ты пришла.
– Он так побледнел! Я даже испугалась, что он упадет в обморок. Сунул мне огромный букетище, в полтора раза больше его самого. Лимузин и вправду был прямо из фильма про гангстеров. С баром, телевизором, стереосистемой, а сиденья – не поверишь! – из шкуры леопарда.
– Бедные экологи! – воскликнул дон Ригоберто.
– Кошмарная безвкусица, я знаю, – признался Модесто, пока шофер, высоченный афганец в гранатовом мундире, укладывал чемоданы в багажник. – Но это самый дорогой лимузин, который у них был.
– А он умеет посмеяться над собой, – отметил дон Ригоберто. – Очень мило.
– По дороге в «Плазу» он сделал мне невинный комплимент и покраснел, как помидор, – продолжала донья Лукреция. – Сказал, что я прекрасно сохранилась и стала еще красивее, чем в ту пору, когда он делал мне предложение.
– Так и есть, – перебил дон Ригоберто и прильнул поцелуем к губам жены. – Ты с каждым днем, с каждой минутой становишься все краше.
– Ни одного двусмысленного словечка, ни одного рискованного намека, – добавила женщина. – Он так меня благодарил, что я почувствовала себя чуть ли не добрым самаритянином из Библии.
– Ты знаешь, о чем он думал, пока любезничал с тобой?
– О чем? – Ступня доньи Лукреции скользнула Ригоберто между ног.
– Увидит ли он тебя голой в тот же вечер, в «Плазе», или придется дожидаться первой ночи в Париже, – объяснил дон Ригоберто.
– Он не увидел меня голой ни в тот же вечер, ни первой ночью в Париже. Только если подглядывал в замочную скважину, пока я принимала душ и одевалась в оперу. Мы и вправду жили в разных комнатах. Моя была с видом на Центральный парк.
– Но он, конечно, тискал твою руку во время спектакля или в ресторане, – жалобно проговорил разочарованный дон Ригоберто. – «У Режины» он осмелел от шампанского и чмокнул тебя в щечку, когда вы танцевали. Сначала в щечку, а потом в шейку или в ушко.