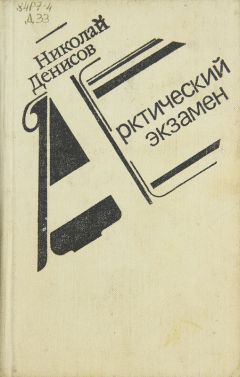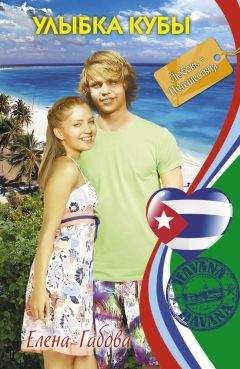Управился дядя Коля — невод подо льдом. Идет, машет Лохмачу: не отставай, мол, Сашка. Яремин уже вытянул морило на лед, а тот никак не может развернуться на углу. Ворочает стяжками, но опять не выходит.
— Задержит крыло, ох задержит. — Это дядя Коля подошел. Чемакин и моторист бегут к Сашке, помогают. Порядок, — машет Лохмач. Скоро в манне показался конец и Сашкиного норила.
— Тяните живей!
Витька с Володей ловят желтый конец жерди в проруби, бегом выносят норило на лед.
Затарахтел моторчик. Дошло до выборки невода. Моторчик чихает и вздрагивает, пыжится изо всех сил. Тяжело четырем лошадиным силам! Моторист наматывает на барабан лебедки мокрый канат: идет невод!
— Какой душной запах, — рыбаки обступили майну. Оттуда несет торфяной прелью, водорослями.
Горит озеро… Должна пойти…
— Да, вроде бы должна, — бригадир волнуется больше всех.
Моторчик вдруг ошалело развил обороты — сорвался канат, настыло на лебедке. Крылья невода, — их цепляет крюком Акрам, — ослабли, пошли ко дну.
— Шевелись, в тридцать три селезенки мать, — заорал Яремин не то на моториста, не то на Акрама. Но те уже поймали канат, и моторчик вновь запыхтел, заприцокивал клапанами.
— У нас вот тоже, помню, случай произошел, — спокойно проговорил дядя Коля, вылавливая сачком морогу. — Тянули на глуби. Понятное дело, вертушкой… Тут и подскользнись один, а следом второй. Упали. Дак меня так мотануло в обратную сторону, угодил, что вы думаете — в майну… Еле вызволили…
— Это что, вот… — но тут Лохмач осекся, взликовал: — Пошла, пошла…
Витька, а следом и Толя с Володей бросили трясти невод, прибежали к майне. Рыбаки постарше и ухом не повели, укладывали снасть двумя пирамидками.
— Ну, чего секешь ногами, чего? — Чемакин расстегнул полушубок, проворней заработал сачком. Всплыло несколько некрупных карасей. Мотня была близко.
Моторист сбавил обороты, осторожно подводил мотню к майне.
— Стоп, парень. Ладно, — подал знак дядя Коля, — руками надо…
Сбежались теперь все. Выбирали мережу на края, Чемакин успевал откидывать всплывших карасей. Тяжело идет мотня. Долго длятся последние минуты. И вдруг забилась, затрепыхалась в руках мережа, и в кипящей от всплесков студеной воде заблестели серебряной чешуей рыбьи хвосты. Тысячи, как всем показалось, хвостов.
— Теперь черпайте, — выдохнул башлык.
Черпали и кидали улов на расчищенную от снега площадку. Упругие рыбины шлепались на лед, выгибаясь и подпрыгивая, схватились на морозе звонкими слитками.
* * *Рыбаков тем временем уже поджидали в деревне. На просторном подворье Никифора первым объявился старик Михалев Лаврен в диагоналевых галифе. Он хороший портной, но в последние годы шитье заказывали мало. Перебивался со старухой на пенсию, платили «шашнадцать» рублей, да раза два в квартал получал переводы от сына из Фрунзе. Туда всякими неправдами уехало уже с десяток семей. Сын тоже звал, Лаврен отказывался: «Нам и тута ладно».
Следом прихромал управляющий Алексей Тимофеевич вместе со скотником Кондруховым.
— Доброго здоровья, старики! — Управляющий гладко побрит, из-под тужурки выглядывает новая рубаха, суконный пиджак. Кондрухов с вилами — насаживал дома черенок.
Никифор воткнул топор в чурбак, он тесал новую задвижку к завозне, кивнул гостям:
— Здорово!
Помолчали неловко.
— Да — а… Прибывает дён-то, — заговорил Лаврен, присаживаясь на чурбак.
— Как же, прибыл… Солнце на лето повернуло, а морозы только еще поигрались… Может, в дом зайдем? Чё тут носы морозить?
— Ты погоди, Никифор Степанович, чай мы и дома пили, а христовы праздники вроде прошли, натешились, — остановил хозяина Алексей Тимофеевич.
— Рожество, слава богу, отгуляли, а ить крещенье скоро. Забыл?
— И верно, из головы повышибло. — Алексей Тимофеевич полез за куревом. По старой привычке, с войны, он не изменял «звездочке», хотя за последнее время папиросы стали хуже, табак поторчал.
— Ведь опять насосешься, стерх ты непаленый, — повернулся он к скотнику. — Ты уж предупреди, где тебя искать в этот раз. А то ведь что учудил, старики? Залез в гаино к своему борову и спит…
— Не насосусь, Тимофеевич. Плюнь мне в глаза.
— Плюнул бы, да что мне, самому прикажешь потом глызы от коров отвозить? Плюнь… — Тимофеич потер рукавицей калеченную на войне ногу. — Недавно вот вызывали в дирекцию в Еланку: «За что, — говорят, — ты орден Александра Невского носишь, память доброго человека позоришь?» — «Ношу, — говорю, — на фронтах заработал». Директор так и взбеленился: «На фронтах ты храбро управлялся, ротой и батальоном командовал, а сейчас с двумя отделениями не можешь совладать…» Как ни верти, а прав он. Хоть што поделай…
— А ты по добру, — подкашлянул Михалев, — раньше оно ить как было, человека уважили, похвалили, он рад с пупа сорвать, пластался и на поле, и на ферме, и при обчественном деле.
— Ты погоди, Михалев. — Управляющий приспособился на поленьях, вытянул калеченую ногу. — Про раньше-то ты много ли понимаешь, всю жизнь картузы кроил.
— Кроил, ну. Самому великому князю, главнокомандующему Николаю Николаевичу, мундер по примерке… Да и тебе, Тимофеич, помнится, шинелишку на пальто переиначивал.
На улице залаяла собака. Мужики как по команде повернули головы. К воротам подошла Нюра Соломатина.
— Не приехали? — спросила она, хотя и так ясно, что не приехали. — Я молочишка принесла ребятам. Возьми, Никифор Степанович, посудину… Сам-то не забудь, налей себе стакан, — наказала вдогонку.
Никифор отнес молоко в дом, вернулся. Михалев что-то доказывал мужикам, нажимая на сиплый голос.
— …Обчественные поручения давали. Не смейся, давали. Еще при колхозе. При том председателе, ты его знаешь, орденов поболе твоих носил. Приехал как-то на ходке прямо в дом. «Вот тебе, — говорит, — Михалев, красный сатин, сошей два флага. В потребсоюзе сатину-то достал… Один, — говорит, — чтоб на правленье вывесить, другой переходящий». Что ты думаешь, сошил. К потемкам, гляжу, один на твоих воротах трепыхается.
— Это Федька, старший, присобачил тогда, помню, — подобрел управляющий, — на сенокосе вручили…
— Вот и советую, Тимофеевич, ты по-доброму с людьми-то, как Ленин, — неожиданно заключил Михалев.
— Ишь ты, куда хватанул, — удивился Алексей Тимофеевич. — Применил тоже — Ленин! Да он же вождь, народами руководил… Ну, загнул!
То-то и оно, народами. Но ведь, если обмозговать по порядку, он и везде, и в малых делах курс нужный прокладывал. А все потому, что добром.
Михалев охлопал с шапки снег, поглядел, не едут ли рыбаки.
— Не видать? — спросил Никифор. — Кто это там? Мать вроде Гальки?
— Она, — сказал Кондрухов.
— Куда ездила, Мотя? — громко, чтоб услышала, спросил управляющий.
Женщина оглянулась на голос, поставила па дорогу кузовки, ослабила шаль.
— Да в Еланку с молоковозом.
— Обнов набрала?
— Да каких обнов? — отмахнулась Матрена. — Трикотажу выбросили с утра, купила кое — чего.
— Зайди покажи.
— Ой, да пристала я, сердешная… Что показывать-то… Чашки, ложки, кастрюльки две малированных, суп варить.
— Ну иди с богом, — отпустил ее Никифор. — Задержались рыболовы, не едут.
— Правду я говорю, — продолжает Михалев. — Вчера это вышел я по нужде, на улке лунно, светло. Гляжу, а они из моей бани выкатывают, прямо на меня.
— Галька?
— Ну дак а кто же, она. И этот с ней коренастенький, не знаю, звать как. Каво им по ночам надо по баням блудить? Время уж много было…
— С Натольем она была, — спокойно рассудил Никифор. — В мордобоя который костерит всех…
— От парень, та второй, вечер огулял девку, — качает головой Тимофеевич. — Жениться заставлю… Заставлю!
— Женишь, да у ней таких женихов перебывало, как в кадушке огурцов.
— Нет, ты брось, Кондрухов, на девку наговаривать, брось…
Собеседники еще какое-то время ведут неспешный разговор. Вспоминают разные случаи про баб и про девок, трут замерзшие носы, прислушиваются к бреху собак. Смеркается.
В домах затопили уже печи. Над трубами дымы прямые, как свечи. Мороз еще будет. Он шастает пока по лесам, урманам, стережет медвежьи берлоги, гоняет по осиннику зайцев. Мороз будет, решают старики.
И тут из проулка с криками, топотом, со скрипом полозьев выкатывает заиндевелый обоз.
— Ого — го — го! — слышен голос Лохмача. — Отворяй, дед, ворота!
«Слава богу, приехали!» — думает Никифор.
4Деревня в тот вечер не спит долго. В домах мерцает керосиновый свет, и во многих окнах виднеются отблески печных огней. Топятся железянки и даже русские печи, которые, по обычаю, топят по утрам. Из труб пахнет манящим ароматом свежей ухи… Старики прихлебывают деревянными ложками жирный навар, вспоминают добрую летнюю пору. В Нефедовке рыболовством занимаются многие, но по теплу, а так, чтобы промышлять зимой, — об этом не думали. Не привыкли.