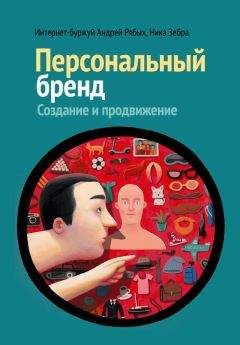Джулия улыбнулась, и мы начали.
Дальнейшее мне нечем оправдать. Я начал выигрывать, и мне это нравилось.
— Можно переподать? — сказала Джулия. — Я вчера ушибла палец, он заболел, когда подавала.
— Нет.
Я продолжал выигрывать.
— Это нечестно, Нил. У меня шнурок развязался. Можно, я еще…
— Нет.
Мы играли, я — свирепо.
— Нил, вы оперлись на стол. Это не по правилам.
— Я не оперся, и это по правилам.
Я чувствовал, как прыгают в кармане черешни среди центов и пятицентовиков.
— Нил, вы отжулили у меня очко. У вас девятнадцать, у меня одиннадцать.
— Двадцать и десять, — сказал я. — Подавай!
Она подала, я отбил с силой, шарик пролетел над столом, мимо нее и ускакал к холодильникам.
— Вы жульничаете! — закричала она. — Жулик! — Подбородок у нее дрожал, как будто она держала большую тяжесть на своей красивой головке. — Я вас ненавижу.
Она отшвырнула ракетку, ракетка грохнулась о бар, и в это время захрустел гравий под колесами «крайслера».
— Игра не кончена, — сказал я ей.
— Вы жульничали. И воровали фрукты.
Она убежала, не дав мне довести игру до победы.
* * *
В эту ночь я впервые спал с Брендой. Мы сидели на диване в комнате с телевизором и за десять минут не сказали друг другу ни слова. Джулия давно отправилась в слезах на боковую, и, хотя никто не спросил меня о причине ее слез, я не знал, донесла ли девочка о горсти черешен, которую я успел уже спустить в унитаз.
В доме было тихо, телевизор работал с выключенным звуком, и серые фигурки в дальнем конце комнаты вихлялись молча. Бренда сидела, поджав под себя ноги, укрытые платьем. Мы сидели довольно долго и не разговаривали. Потом она пошла на кухню, а вернувшись, сказала, что, похоже, в доме все уснули. Мы посидели еще, глядя на безмучные фигуры, беззвучно ужинавшие в каком-то беззвучном ресторане. Когда я стал расстегивать на ней платье, она воспротивилась — мне хочется думать, потому, что знала, как мило она выглядит в платье. Но она была прекрасна в любом наряде, моя Бренда; мы заботливо сложили его и обнялись, и Бренда стала медленно опускаться подо мной, медленно, но с улыбкой.
Как мне описать то, что было дальше? Это было так сладко, как будто я выиграл наконец двадцать первое очко.
Приехав домой, я набрал номер Бренды, но не раньше, чем тетя услышала меня и поднялась с постели.
— Кому ты звонишь в такое время? Доктору?
— Нет.
— Что за звонки в час ночи?
— Шшш! — сказал я.
— Он говорит мне шшш. Звонит в час ночи, как будто нам и так приходит маленький счет. — И она потащилась обратно в постель, где перед этим, с сознанием мученицы и слипающимися глазами, сопротивлялась тяге сна, пока не услышала мой ключ в двери.
Трубку взяла Бренда.
— Нил? — сказала она.
— Да, — прошептал я. — Ты не вылезла из постели?
— Нет, телефон рядом с кроватью.
— Хорошо. Как тебе в постели?
— Хорошо. Ты в постели?
— Да, — соврал я и постарался приблизиться к правде, подтащив телефон как можно ближе к спальне.
— Я в постели с тобой, — сказала она.
— Правильно, — сказал я, — а я с тобой.
— У меня шторы спущены, темно, и я тебя не вижу.
— Я тебя тоже не вижу.
— Было так хорошо, Нил.
— Да. Спи, родная, я здесь. — И мы повесили трубки, не попрощавшись.
Утром, как и условились, я снова позвонил, но почти не слышал Бренду, да и себя, кстати, потому что тетя Глэдис и дядя Макс собирались днем на пикник Рабочего круга[18], и случилась неприятность с виноградным соком в холодильнике — он капал всю ночь из кувшина и к утру просочился на пол. Бренда еще была в постели и с некоторым успехом могла продолжать нашу игру; мне же пришлось опустить шторы на своих органах чувств, чтобы вообразить себя рядом с ней. Я мог только надеяться, что настоящие наши ночи и утра придут, и скоро они пришли.
В следующие полторы недели в моей жизни было как будто только два человека: Бренда и цветной мальчик, который любил Гогена. Каждое утро перед открытием библиотеки мальчик уже ждал; иногда он сидел верхом на льве, иногда у него под брюхом, иногда стоял около и бросал камешки в его гриву. Потом он входил, топал по первому этажу, покуда Отто взглядом не поднимал его на цыпочки, и, наконец, устремлялся вверх по длинной мраморной лестнице к Таити. Он не всегда просиживал до обеда, но однажды очень жарким днем он уже был там, когда я пришел на работу, и вышел следом за мной, когда я уходил вечером. На другое утро он не появился, и, как будто вместо него, явился глубокий старик, белый, пахнувший леденцами и с сетью прожилок на носу и щеках.
— Не скажете, как мне найти отдел искусств?
— Третья секция.
Через несколько минут он вернулся с большой коричневой книгой. Он положил ее на стол, вынул свою карточку из длинного безденежного бумажника и ждал, когда я проштемпелюю карточку.
— Вы хотите вынести эту книгу?
Он улыбнулся.
Я взял карточку и сунул в машину, но не проштемпелевал.
— Одну минуту, — сказал я и вынул из ящика блокнот, перевернул несколько страниц, на которых играл сам с собой в морской бой и в крестики-нолики. — Боюсь, эта книга затребована в читальню.
— Что?
— В читальне. Кто-то позвонил и попросил ее отложить. Давайте я запишу вашу фамилию и адрес и пошлю вам открытку, когда она освободится.
Так мне удалось, правда покраснев раз или два, — вернуть книгу на полку. Позже днем, когда пришел мальчик, она была на том же месте, где он оставил ее накануне.
С Брендой я виделся каждый вечер, и, когда не было вечернего матча, державшего мистера Патимкина у телевизора, или карточной игры в Хадассе[19], откуда миссис Патимкин возвращалась в непредсказуемое время, мы с Брендой предавались любви перед безмолвным экраном. Однажды пасмурным теплым вечером Бренда повезла меня в бассейн клуба. Мы были одни у бассейна; все кресла, кабинки, лампы, трамплины и сама вода существовали как будто только для нас. На ней был синий купальник, под лампами казавшийся фиолетовым, а в воде — то зеленым, то черным. Поздно вечером со стороны поля для гольфа подул ветерок, мы закутались в одно громадное полотенце, сдвинули два шезлонга и, презрев бармена, который упорно расхаживал взад-вперед за окном, глядевшим на бассейн, улеглись рядышком. Наконец свет в баре погас, а затем разом выключились фонари вокруг бассейна. Сердце у меня, наверное, забилось чаще, или еще что-то изменилось, потому что Бренда как будто угадала мое сомнение, — надо уходить, подумал я.
Она сказала:
— Ничего.
Было очень темно, беззвездное небо висело низко, и я не сразу стал видеть трамплин, чуть более светлый, чем ночь, и отличать воду от кресел у дальнего края бассейна.
Я стянул с плеч лямки ее купальника, но она сказала «нет», отодвинулась на сантиметр и за две недели, что мы были знакомы, впервые задала мне вопрос обо мне.
— Где твои родители? — спросила она.
— В Тусоне. А что?
— Мать меня спросила.
Теперь я различал кресло спасателя, почти белое.
— А ты почему здесь? Почему не с ними?
— Бренда, я уже не ребенок, — сказал я, резче, чем хотел. — Я не могу повсюду ездить за родителями.
— Но почему тогда живешь с тетей и дядей?
— Они не родители.
— Они лучше?
— Нет. Хуже. Не знаю, почему я с ними живу.
— Почему? — сказала она.
— Почему не знаю?
— Почему живешь? Знаешь ведь, да?
— Из-за работы, наверное. Дорога удобная… дешево… родители довольны. Тетка на самом деле хорошая. Я правда должен объяснять твоей матери, почему живу там, где живу?
— Не матери. Я хочу знать. Не понимала, почему ты не живешь с родителями, вот и все.
— Замерзла? — спросил я.
— Нет.
— Хочешь домой?
— Нет, если ты не хочешь. Тебе хорошо, Нил?
— Вполне. — И чтобы напомнить ей, что я — это все еще я, обнял ее, хотя сейчас без желания.
— Нил?
— Что?
— Почему библиотека?
— А это кто хочет знать?
— Отец. — Она засмеялась.
— И ты?
Она не сразу ответила.
— И я, — сказала она наконец.
— А что библиотека? Нравится ли мне? Нормально. Одно время я продавал туфли, библиотека мне нравится больше. После армии меня месяца два испытывали в риэлторской компании дяди Аарона — отца Дорис, — в библиотеке мне нравится больше…
— А туда ты как попал?
— Я там немного работал, когда учился в колледже, а потом ушел от дяди Аарона и… ну, не знаю…
— Что ты изучал в колледже?
— Я учился в Ньюаркских колледжах Университета Ратгерса и закончил по специальности философия. Мне двадцать три года. Я…
— Ты опять задираешься?