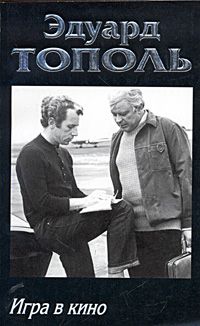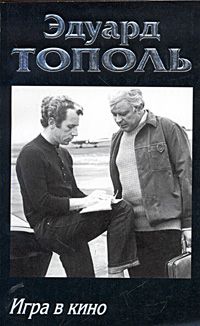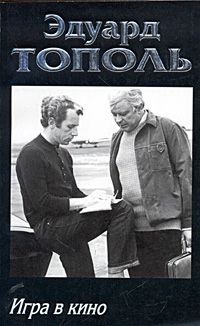И посмотрел на меня, сказал шепотом:
– Вот так в каждой сцене. То он ее сажает, то она его. Что делать?
Но я уже и сам подскочил к Ирине, взял ее под локоть, отвел от всех и сказал в отчаянии:
– Ира! Это же ваша главная сцена! Вчера вы мне сами сказали, что именно из-за этой сцены вы согласились сниматься в фильме! Ну как же так?
Действительно, вчера, во время ужина в ресторане гостиницы, Ира выдала мне целую обойму комплиментов за то, что в этой кульминационной сцене у нее нет ни одного слова, а есть только этот жест и взгляд.
– Я знаю, как это сыграть, Эдуард, не волнуйтесь! И можете спать спокойно – я сыграю это не хуже вашей любимой Лайзы Миннелли! Вот увидите!
И вдруг сегодня, тут, на съемочной площадке, в ее лице и в ее замечательных темных глазах – пустота, пустыня, кладбище эмоций и мыслей.
– Ира, что с вами? Может, послать за коньяком? За кофе?
– Ничего не нужно, – ответила она, нервно закуривая. – Просто уберите этого Соломина из кадра, я не могу видеть его перед собой!
– Но как же снимать эту сцену без Андрея?
– Ну, вы же сняли общий план, как мы стоим друг против друга. А теперь снимите мой крупный, но без него. Поставьте вместо него кого угодно или станьте хоть сами. И я вам все сыграю.
– Как вы сыграете, Ира?! – сказал я с тоской, понимая, что и эта сцена, которой я так гордился и которую не вымарал даже Нифонтов, летит коту под хвост! Каждый фильм – кладбище сценария, сказали мне когда-то мэтры нашего цеха Фрид и Дунский, утешая по поводу провала двух моих первых фильмов. Но чтобы вот так, на моих собственных глазах, да еще руками таких знаменитых и талантливых актеров похоронить одну из лучших сцен сценария, – это было выше моего еврейского долготерпения!
– Давайте я вам покажу, как я сыграю, – предложила между тем Ирина. – Хотите?
– Ну, покажите… – нехотя согласился я, чувствуя, что сейчас либо брошусь вниз головой с балкона Вильнюсского аэровокзала, либо пойду в ресторан и напьюсь вусмерть.
– Станьте против меня, – сказала Печерникова и поставила меня перед собой. – Вот так. А теперь смотрите. В глаза мне смотрите!
И вдруг – я даже не знаю, как это случилось, господа, но вдруг темные, мягкие, бархатные глаза Ирины Печерниковой, знакомые вам своей наивной невинностью по фильму «Доживем до понедельника», – вдруг эти глаза расширились, и властным, могучим и даже каким-то втягивающим взглядом вобрали меня в себя – всего, целиком, до моих колен и подошв! И там, внутри, в женской эротической глубине ее плоти они омыли меня слезами любви, нежности и вожделения, а затем выпустили из себя, снова поставили перед собой на холодные плиты летного поля, и уже совсем другим, не чувственно-плотским взглядом любовницы, а взором все понимающей и все прощающей матери прошли по моему лицу и щекам, вернулись к моим глазам и… оттолкнули меня от себя, посылая в другую жизнь…
– Ну? – сказала Ира после паузы и затянулась сигаретой. – Вы видите, я обошлась без жеста, только глазами. Так вас устроит?
– Ира… – хрипло выдохнул я, чувствуя такую слабость в коленях, словно я только что совершил самый большой сексуальный подвиг своей жизни и лишь чудом остался после этого жив. – Это… Это именно то, что нужно в этой сцене! – И повернулся к режиссеру: – Боря, свет, камеры!
– Но только без Соломина, – тихо сказала мне Ирина. – Станьте вместо него на восьмерке.
– Нет, Ира, я больше не могу! Два раза подряд я это не выдержу!
– Ничего, ничего, становитесь! – сказала она. – Не с Халзановым же мне это играть! У него тут жена на площадке…
Нужно ли говорить, что после четвертого дубля я ушел с площадки на ватных ногах и ни в этот день, ни в три последующих не был способен ни на какую мужскую работу?
Но самое типично киношное во всем этом было то, что мой подвиг пропал зазря, потому что все-все сцены, которые в десятках дублей были сняты в те дни в Вильнюсе и ради которых свердловская киногруппа прилетала тогда в Литву, – весь этот гигантский, нервный и дорогостоящий двухнедельный труд Баниониса, Печерниковой, Соломина и других актеров был снят на пленку Рязанской кинофабрики и оказался… пленочным браком.
И от всей этой замечательной истории, которую я храню в своем сердце и других сокровенных частях своего тела как память о гениальном мастерстве русской актрисы Ирины Печерниковой, – от всего этого осталась одна-единственная фотография, снятая свердловским студийным фотографом в тот момент, когда мы стоим с Ириной друг против друга и она готовится показать мне, как можно сыграть любовь…
Н-да… Но первый раз такой высокий уровень актерского мастерства я видел в исполнении французского актера во время того памятного ужина в ресторане вильнюсской гостиницы. Он так «любил» тогда директора своего театра, что уговорил-таки его пойти с ним танцевать, и это был танец, достойный музыки Дебюсси, Чайковского и Вебера, вместе взятых. Никакой Лиепа, господа, никакая Плисецкая, при всей их гениальной пластике, никогда не сыграют вам такую чувственность, и страсть, и обожание, и трепет, и негу, и темперамент, и еще черт-те что, какие изливал в тот вечер этот чертов французский Шукшин на абсолютно дубового и бесчувственного директора «Комеди Франсез». И от этой их полной несовместимости, от разительного контраста их полярности рождался такой комический эффект, что какой тут к шутам «Мнимый больной»! Даже актеры «Комеди Франсез», только что сами отыгравшие комедию Мольера, заходились от смеха до икоты и буквально падали на пол со стульев, роняя вилки, салфетки и накладные ресницы…
В час ночи, когда ужин закончился, Вирджиния снова взяла меня за руку и повела к лифту. Я обомлел от предчувствия. Неужели во Франции это делается вот так запросто? Взять за руку и у всех на глазах повести в свой номер! К тому же, обессиленный двумя часами непрерывного хохота над всеми видами любви – от возвышенной романтической влюбленности до низменно-чувственной страсти, – я с трудом представлял себе, как я теперь справлюсь с аналогичной ситуацией в жизни.
Но оказалось, что Вирджиния вела меня вовсе не в свой и даже не в мой номер. А на парти, на вечеринку, на выпивон их труппы, который в связи с закрытием ресторана перекочевал в номер одного из актеров. Здесь не было ни стульев, ни стола, ни закуски, но те же двадцать или тридцать актеров уселись тут прямо на пол, вдоль стен, и принесенные изо всех их номеров стаканы наполнились изъятыми из их чемоданов припасами – вином, коньяком, шампанским. Часа через полтора, захмелев от этих коктейлей и прижатых ко мне бедра и плеча Вирджинии, я уже начал понимать по-французски и хохотать вместе со всеми над их шутками и постоянными, после каждого тоста и анекдота, обращениями к вентиляционной решетке в верхнем углу комнаты.
– Dear KGB’s comrades! – почему-то по-английски обращались французы к этой решетке и повторяли за мной по-русски: – Ми пьем за ваше здорове! Ми вас ошень лубим! И приглашаем в Париж!
И хохотали, довольные собой.
А я опьянел настолько, что не без успеха – жестами и тремя английскими словами – рассказал им подлинную историю, которая случилась пару лет назад в ленинградской гостинице «Астория» в номере композитора Никиты Богословского.
– Наш русский Мишель Легран – композитор Никита Богословский, – сказал я, – приехал однажды в Ленинград писать музыку для очередного фильма ленинградской студии. Он поселился в «Астории» и, как водится, собрал вечером своих друзей на вот такую же парти – вечеринку. А друзья у него – вся элита Питера: режиссеры театра и кино, писатели, артисты. Было много выпито и еще больше сказано, причем сказано, конечно и в основном, насчет «Софьи Власьевны» – то есть советской власти. Через пару часов этого дружеского веселья оказалось, что у собравшихся кончились сигареты, и кто-то из гостей хотел сбегать за куревом в буфет, но Богословский сказал:
– Ну зачем же бегать? Мы сейчас попросим… – И, повернувшись вот к такой же вентиляционной решетке под потолком своего номера, попросил: – Товарищи сотрудники КГБ, тут у нас сигареты кончились. Будьте добры, принесите нам пачку «Столичных».
Гости Богословского посмеялись над этой непритязательной шуткой и через минуту забыли о ней, и кто-то из самых нетерпеливых курильщиков уже собрался идти в гостиничный буфет, как вдруг послышался вежливый стук в дверь.
– Кто там? Войдите! – сказал Богословский.
Дверь открылась, на пороге стояла дежурная по этажу.
– Вы просили сигареты, – сказала она. – Вот, пожалуйста, вам просили передать. – И протянула пачку «Столичных».
Конечно, после ее ухода в номере послышались смешки и саркастические остроты. Не веря в то, что их действительно слушает КГБ, каждый тем не менее стал мысленно вспоминать, что именно он сказал насчет нашей родной коммунистической партии и советской власти. Курильщики – а таких было большинство – в минуту нервно разобрали принесенные сигареты, говоря: «Нет, этого не может быть! Это какое-то совпадение!» И тут обнаружилось, что у собравшихся, оказывается, кончились не только сигареты, но и спички. Нечем было прикурить людям! И тогда Богословский снова обратился к вентиляционной решетке: