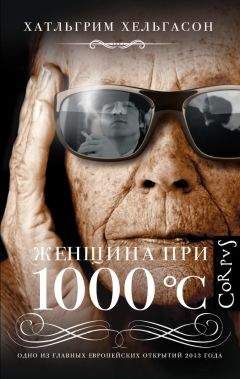– Тридцать один, а тебе?
– Двадцать, – ответил он и улыбнулся. – Но скоро мне будет тридцать.
В этом что-то было. Потому что вскоре началось десятилетие, которое пролетело быстрее всех других в двадцатом веке. Я смотрела, как он открывает балконную дверь, которая на самом деле была просто окном в человеческий рост, снова входит в шум и превращается в длинноволосого, всемирно известного и бывшего битла, переписавшего историю музыки двадцатого века и подбившего полмира хипповать и лежать в постелях в Амстердаме.
А я осталась стоять и вновь повернулась к городу, к своей несчастливой жизни. Где-то там вдалеке был центральный вокзал, на котором я в середине войны «потеряла» в течение одних суток и отца, и мать; и где-то внутри меня маленькая светловолосая девочка все еще играла на тротуаре в другом городе. Я услышала ее смех, когда заскочила в бар, где у меня в затылке раздался стук – самый жуткий звук из тех, что издает жизнь. Он превратил меня в самую ужасную деваху на земле. Я слышала этот стук (который возникает, когда двухлетняя головка сталкивается со стальным американским бампером на скорости тридцать километров в час на узкой улочке в аргентинской столице) каждый… порой каждый месяц, порой каждый день – всю жизнь. Кто потерял ребенка – потерял половину рассудка.
Однако я родила и другого ребенка, которого подкинула маме, а сама убежала сюда целоваться с парнями. Теперь он спал в бабушкином доме – годовалый Харальд, до которого мне совершенно не было дела. В разлуке с обоими детьми я больше скучала по ней, умершей, чем по нему – живому. Может, я сама потихоньку умирала? А может, я ушла от малыша из страха потерять под колесами машины еще одну жизнь?
Я очнулась от своих дум, утерла слезы и только тут заметила, что держу в руках незажженную сигарету, которую дал мне мальчик-баддихольчик. Я поискала в карманах юбки спички, но ничего не нашла, однако входить в квартиру сейчас мне не хотелось, и я уронила сигарету вниз на улицу.
И вот сейчас, когда я лежу прикованная к постели и пытаюсь согреться о Колонну Мира, я понимаю, что лучше бы мне было сберечь эту сигаретку из пачки Леннона, невыкуренную палочку – на память о том, что могло бы произойти. Тогда бы я продала ее вместе с влажным битловским поцелуем на eBay, а на вырученные деньги обставила бы гараж: завела там møbler og tapet[38], а еще этот самый плоскоэкранник, по которому крутили бы одни кинофильмы по мотивам моей жизни.
Как женщина я, конечно же, была очень одинока в моем поколении. Пока мои ровесницы ходили в реальное училище, я в одиночку сражалась с целой мировой войной. Из нее я вышла пятнадцатилетней, но с таким жизненным опытом, как будто разменяла третий десяток.
Мне исполнилось двадцать в 1949 году. Согласно учебному плану эпохи, мне следовало либо отправиться в короедство Данию, и изучать какую-нибудь овсянкологию, либо остаться на Синем острове и посвятить себя мыслям о замужестве; благородная девица из президентского рода на балу в Доме Независимости близ площади Эйстюрветль. Меня бы пригласил на танец Гюннар Тороддсен[39], и мы бы в конце концов оказались в Бессастадире (со мной бы он точно победил), в окружении детей и журналистов. Но вместо этого меня понесло дальше на поиски приключений: я плясала на палубах к югу от экватора и никому не позволяла себя приглашать – наоборот, я всех отгоняла.
Я много повидала за границей, и к этому надо прибавить, что в ту пору Исландия отставала от пульса времени на целых шестнадцать лет. Поэтому мне было трудно приспособиться к жизни маленького городишки на родине. Я была дитя войны – не в том смысле, что выросла в военные годы, а в том, что меня взрастила сама война. Так что я стала светской женщиной еще до того, как стала просто женщиной. Я была звездой вечеринок и перепивала всех мужчин еще до того, как Ауста Сигурдардоттир[40] возмутила всю страну своим поведением. Я стала практикующей феминисткой задолго до того, как само это слово появилось в исландской прессе. Я многие годы посвятила «свободной любви» до того, как придумали этот термин. И конечно же, я поцеловалась с Ленноном задолго до того, как до нашего тугодумного мерзлозема наконец дошла битломания.
И от меня еще ждали, что я буду «как все»!
Я была самостоятельна, ничего не боялась, и ничто меня не останавливало – ни правила, ни парни, ни пересуды. Я разъезжала по странам, бралась за любую работу, сама прокармливала себя и семью, родила детей и одного потеряла, но оставшимся не дала связать меня по рукам и ногам: я либо брала их с собой, либо оставляла; я все время шла вперед и не давала заманить себя замуж, не давала уморить себя со скуки, а это, конечно же, давалось мне труднее всего. Еще задолго до того, как хипповые дамы появились на сцене и начали сплавлять своих детей мамам, чтобы самим дальше раздолбайствовать в свое удовольствие, я уже придумала понятие «мать-заочница». «Нельзя, чтобы плод прошедшей любви мешал следующей», – сказала одна героиня шестидесятых. А может, я сама? Можно сказать, что я вела своего рода хипповский образ жизни, только создала его сама, из собственной головы, а не по модному парижскому рецепту.
Симоне де Бовуар, или, как говорил мой Среднейоун, Симоне де Бовари, было, конечно, легко – на пути ее личной эмансипации не стояли дети, – и все же она постоянно была влюблена, рано связала себя узами славы с Жаном-Полем Сартром, карликом, гадким философёнком, который, тем не менее, оказался одним из величайших сердцеедов века и превратил любовные союзы в вид спорта; а она всю жизнь мучилась ревностью. Она пыталась для исправления ситуации заниматься тем, что острословы называют Le Deuxieme Sex[41], но все напрасно: ей не удалось «от****ться от любви», как выражаются у нас на Западных фьордах, и она кончила тем, что возлегла с мертвым повесой, словно Джульетта со своим Ромео, – лишь тогда она могла обладать им одна.
Немудрено, что мы, женщины, такие слабаки, если даже та, что могла бы стать нашей предводительницей, не смогла добиться освобождения от мужчин. Полное освобождение женщин не будет достигнуто до тех пор, пока все мужчины не уйдут на свою войнушку, и риска забеременеть не станет. Тогда мы, женщины, сможем целый век жить припеваючи, лизаться друг с другом, трепать друг друга по щеке, а в свободное от этого время наносить удары в спину.
Брак Сартра и де Бовуар в свое время, конечно же, превозносили как современный союз мужчины и женщины, который должен служить для всех примером, но за райским кадром скрывался ад, полный других людей. Одно время я интересовалась знаменитыми супругами: они были у меня на Yahoo! Alerts в моем гараже. Редкий месяц обходился без новых сожительниц, чьи души оказывались ранены карликом или дамой, или обоими вместе. Оказалось, что наши дражайшие супруги удовлетворяли свои инстинкты со своими ученицами (иные из которых едва достигли возраста для получения водительских прав), а после дефлорации бросали их, так что некоторые из них кончали самоубийством, а еврейки – в газовых камерах. А некоторых учениц они перебрасывали друг другу, словно кидая с одной кровати на другую плюшевого мишку. В конце концов я отключилась от этого источника старых сексуальных новостей. В старости их можно вытерпеть только в ограниченном количестве. Жан-Поль и Симона были кем-то вроде теннисистов, игравших не мячами, а душами. Жизнь научила меня одной простой истине: знаменитостями становятся только сволочи. По крайней мере в отношении писателей это верно, потому что чем скучнее их книги, тем занимательнее личная жизнь.
За все годы жизни в Париже я так и не сподобилась увидеть ее, а вот его однажды встретила: в злачном месте возле Пляс Пигаль наши взгляды пересеклись в тесном коридоре уборной. Конечно, удостоиться сладострастного взгляда таких знаменитых глаз было своего рода честью, но мои глаза на него не ответили, зато в голове у меня неожиданно возникла картинка: его лицо превратилось в мужские половые органы, очки в оправе покоились на фаллосе с нос длиной, а за ними таращились глаза, набухшие от спермы.
Конечно, по части свободы нравов до этих прославленных французов мне далеко, но кое-какие достижения у меня есть. И все-таки мне кажется, что мой распущенный образ жизни исландки взяли на вооружение только в последние годы. Недавно я наткнулась на дискуссию об Исландии в испанском журнале, и там молодые исландамочки расхваливали свингообразный образ жизни маленького народа, у которого каждый может иметь детей от кого угодно, потому что все равно все – многодетные приемные отцы и матери. По тому описанию выходило, что Исландия – одна сплошная оргия, а дети там сами могут выбирать себе родителей.