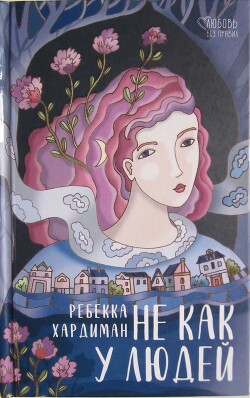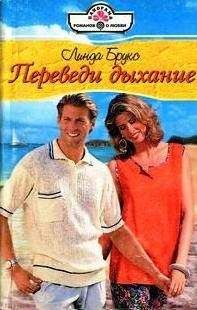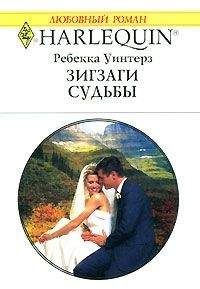Но, каким бы трогательным и соблазнительным ни выглядело это простое предложение, Милли понимает, что это безумие. Кевин ее считает как минимум недееспособной с придурью. Он скорее согласится, чтобы дочь ошивалась до рассвета на улице, где-нибудь на нижней Шериф-стрит, где даже фонари не горят и все стены разрисованы граффити, чем позволит ей поселиться в Маргите.
— Что случилось-то? С сестрой поссорилась?
— Я ее ненавижу.
— Ну, знаешь…
— Ты понятия не имеешь, какая она на самом деле. Сучка бесстыжая, вот она кто.
— Эйдин!
— Ты же говорила, что не будешь ругаться. — Эйдин смотрит на Милли из другого конца комнаты. — Ты уже знаешь про Миллбери?
— Что?
— Про закрытую школу.
— Миллбернскую школу?
Эйдин падает в кресло, уже не сдерживая слез. Она сама не своя. Милли с необычайной ясностью вспоминает, как впервые увидела своих чудесных внучек в родильном отделении Ротонды. Милли, неисправимая курица-наседка, как любил поддразнивать ее Питер, тут же потянулась к кроватке и взяла на руки крохотную Эйдин — упакованную, как в кокон, в хлопковые пеленки и такую легонькую, что сердце защемило. Это было невероятное ощущение — будто спеленатый воздух держишь в руках.
Милли поцеловала младенца в полупрозрачную щечку и стала укачивать, расхаживая по мрачным, темным коридорам больницы и воркуя на ходу без умолку: конечно же, она описала малышке и каждого проходящего пациента, и толстую медсестру с пышной грудью и косыми глазами. Медсестра бросила на Милли суровый, неодобрительный взгляд, и она почувствовала себя юной и легкомысленной. Ну и что плохого в легкомыслии — почему бы ей и не повитать в облаках? Не каждый день в жизни выпадает шанс начать все с чистого листа с новым человеком, с дочерью сына, там, где не успела еще ничего напортить.
— А при чем тут Миллбернекая школа? — спрашивает Милли.
— Они хотят меня туда отправить! — сквозь слезы говорит Эйдин. — Хотят от меня избавиться!
— Что?
Эйдин вытирает щеки.
— Ты знала?
— Я? — возмущается Милли. — Откуда, твой отец мне никогда ничего не рассказывает. Когда это случилось?
— Не знаю. Я вообще не должна была об этом знать. Просто нашла эти… ну… документы.
— Но почему?
— Потому что они меня ненавидят.
— Глупости. Никто тебя не ненавидит. Тебе на будущий год выпускной экзамен сдавать. Должно быть, хотят, чтобы ты по учебе подтянулась.
— Ага, как же.
— Я хочу спросить тебя кое о чем, Эйдин. Где ты нашла те документы?
— У папы на письменном столе.
— А о доме престарелых ты там, случайно, ничего не видела?
Эйдин молчит.
— Никаких фотографий малахольных стариков в инвалидных колясках? Бабушек с ходунками, еще чего-нибудь в этом роде?
— Мне нравится это слово — малахольный.
Милли вздыхает.
— Кажется, меня хотят туда сплавить. Выходит, мы с тобой товарищи по несчастью.
— Вряд ли, бабушка.
— Ты многого не знаешь, — мрачно говорит Милли и добавляет: — Идея! Мы с тобой куда-нибудь убежим — вдвоем. Спрячемся на каком-нибудь большом корабле в гавани и даже знать не будем, куда плывем.
А потом, недели через две, вылезем из темного чулана, проморгаемся на солнце — и окажемся в Африке, и поедем на сафари.
— Так вот ты какой, бред малахольного.
Эйдин впервые за весь вечер еле заметно улыбается, и Милли думает, какая она все-таки славная.
7
Придирчиво перебрав все варианты, Кевин останавливается на «Доббинсе». Именно там сегодня состоится стратегический ужин, во время которого они с Грейс (Грейс уже дома, явилась наконец!), как он надеется, обсудят в деталях вопрос о новой сиделке для его матери — вопрос, который Милли, по своему обыкновению, с момента ареста упорно игнорирует. Кевин до сих пор не знает, готова ли она внутренне к тому, чтобы впустить в дом сиделку. Теперь, в придачу к просмотру в нездоровых количествах всех эпизодов сериала об освобожденных женщинах Майами (он заменил ей батарейки в пульте), мама, похоже, нашла себе новое занятие: приставать к соседям Фицджеральдам, чтобы те вернули какой-то ящик, который она сама им всучила несколько лет назад.
«Доббинс», освещенный в основном крошечными белыми свечками в стеклянных банках, имеет вид чопорный, строгий и сдержанный. Есть надежда, что мама, с ее привычкой бросать родственников за столиком и без приглашения подсаживаться к другим компаниям, которые покажутся ей более интересными, будет достаточно подавлена этой обстановкой, чтобы это отбило у нее желание бродить по всему ресторану.
Они усаживаются и делают заказ. Кевин замечает, что Милли, уже слегка захмелев, начинает исподтишка высматривать потенциальную жертву. Официант, немолодой, надменного вида (эту надменность не нарушают даже жидкие ощипанные усишки), приносит за соседний столик широкий бокал с коктейлем из креветок. За столиком сидит удивительно несовпадающая пара: дивной красоты женщина с оливковой кожей и непослушными курчавыми волосами, а рядом с ней — гигантский рыжий человек-горилла с приятной улыбкой на лице.
— Ах, какая красота, — говорит Милли, якобы обращаясь к сыну с невесткой, но Кевин-то ее хорошо знает. — Должна заметить, я люблю хороший коктейль из креветок, правда, Кев? — Мама повышает голос и бросает взгляд на соседей. — Конечно, за креветками нужно идти только в «Баллибоу», это во-первых.
Кевин негромко говорит:
— Давай на «во-первых» и остановимся.
— А во-вторых, конечно же, коктейльный соус. Туда нужно непременно добавить soupcon [3]…—Мама застенчиво улыбается, как всегда, когда пытается щегольнуть своим школьным французским. — Soupcon хрена. На кончике ножа. — И, обращаясь уже напрямую к соседке, добавляет: — Позвольте спросить, вы из Индии или из Пакистана?
Мама, ты, как всегда, успела приложиться? — говорит Кевин, подмигивая соседям. — Давай не будем мешать людям, хорошо?
— Ничего страшного, — произносит мужчина.
— Я из Тринидада.
Мужчина дружелюбно улыбается маме.
— Вы тоже креветки заказали?
— Кто, я? — переспрашивает мама. — Нет, что вы — куда мне столько креветок! — И обращается к Кевину: Что я заказала?
Это часть спектакля: мать всегда делает вид, будто не знает, что заказала, а когда блюдо приносят, изображает изумление, словно в первый раз видит мидии из Дублинского залива или салат с рукколой, и уж тем более никогда ничего подобного не заказывала.
— Копченого лосося, кажется? — спрашивает она.
— Понятия не имею, — говорит Кевин.
— Или суп. Как бы там ни было, надеюсь, хоть порция будет небольшая. Вот в Америке, вы бы видели — о-о-о, просто не поверите, какого размера тарелки там приносят! Это целая проблема в Штатах — тарелки!
Она смеется.
— Может, не будем…
— Но зато люди! Таких веселых людей вы никогда в жизни не видели. Ой, я обожаю американцев. Правда, они все толстые, как бегемоты, зато милые и добрые. А вы бывали там?
Не дав женщине ответить, мама выливает в рот остатки вина и продолжает:
— Я вот что хочу сказать, вы только не обижайтесь — у меня всегда вызывают интерес межрасовые браки. У вас кожа мулатки, кажется, так принято говорить? Вообще-то, — она заговорщицки наклоняется ближе, — если хотите знать правду, цветные мне больше по душе, чем белые. — Она сияет улыбкой. — Сколько себя помню.
Даже Кевин, который обычно способен отшутиться в самой неловкой ситуации и гордится своим умением сглаживать чудовищно бестактные выходки полубезумной матери, на какой-то миг теряет дар речи.
После нескольких секунд молчания рыжий говорит:
— Значит, нас таких двое. — Он разражается смехом, и тогда уже начинают смеяться все.
Но это лишь короткая передышка.
Пока мама уплетает за обе щеки первое блюдо — суп, как она, конечно, прекрасно помнила, — Кевин снова наполняет бокалы, свой и Грейс, и говорит: