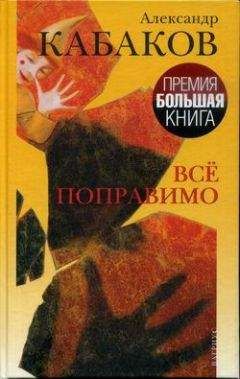Конечно, достаточно было сопоставить такие совпадения хотя бы за последний месяц, чтобы все понять, но сослуживцы в наши дела не лезли — возможно, потому, что в кругу, к которому я принадлежал, такие связи были почти нормой. Едва ли не все мои коллеги, мужики примерно моих лет или старше, завлабы и старшие научные, имели любовниц и не особенно это скрывали, подругами их чаще всего становились лаборантки, аспирантки, мэнээски, некоторые решались связываться и со студентками. Иногда страсть или просто долгая связь кончалась скандалом — пятидесятилетний, перенесший инфаркт, а то и два, достойный ученый муж и руководитель уходил от жены, с которой прожил полжизни, а девочка, если была замужем, поплакав, объявляла все ровеснику-мужу, еще пыхтящему над кандидатской в другом НИИ. И начинались мытарства, снятые за бешеные деньги комнаты в коммуналках, безденежье, да еще общественность проводила воспитательную работу по линии парткома и месткома… Но постепенно все успокаивалось, брошенная жена начинала делать карьеру и через пару лет сама наконец защищала докторскую, У счастливого страдальца от неведомо каким образом прибавившихся сил рождался ребенок — у некоторых к этому времени были уже внуки от старших детей… Институт выбивал для ценного специалиста, хотя и наломавшего дров по линии морального облика, но снова взявшегося за ум, однокомнатную в Дегунине, тут он получал Государственную премию в небольшой компании, прикупал к полученной казенной еще одну кооперативную, менял две на двухкомнатную возле метро и уже жил с любимой женой и младенцем нормально, комфортабельно… Но, увы, довольно часто недолго: третий инфаркт, все откладывавшийся, пока в крови кипел адреналин страсти и решимости, настигал его, молодая жена не отходила от постели, на похоронах все очень суетились, чтобы предотвратить конфликт между бывшей и нынешней, уже вдовой, но конфликта никакого и не было, на поминках все вместе грустно, но спокойно выпивали, тем и кончался счастливый служебный роман. В память о друге вдову, оставшуюся в приличной двухкомнатной и с маленьким ребенком на руках, кто-нибудь брал в свою лабораторию, хотя она совсем дисквалифицировалась за годы семейного счастья… И был случай, когда такая милая женщина, прозванная после этого «переходящим призом», стала причиной профессорского развода и во второй раз, только очередной влюбленный меньше мучился в предпенсионном возрасте, сразу поселившись в приличной квартире, оставленной предшественником, а потому и жил в счастье дольше. И второй ребенок родился, и народ посмеивался, но строго не судил…
В занавешенное какой-то тряпкой окно Женькиной комнаты пробивался яркий дневной свет, и в полумгле я видел то, что уже давно должно было стать привычным, но никак не становилось — длинное узкое ее тело, уходившее подо мною вниз, туда, где мы срослись. Со стороны, наверное, мы были похожи на расщепленное от середины молнией дерево. Глаза ее были закрыты, она не могла с открытыми глазами, хотя я просил ее. Но она всегда закрывала слишком темные по сравнению с добела обесцвеченными — у нее было не по возрасту много седины — волосами глаза, и у меня возникало ощущение, что я остаюсь один. Стояло очень жаркое лето, одно из тех, которых много было в восьмидесятые, пот тек по моему лицу и капал на ее лицо, и она смешно терла веки, вытирала мой едкий пот.
Теперь я уже знал, что выражает ее внимательный взгляд, которым когда-то она посмотрела на меня впервые, — в этом взгляде было ненасытное ее желание, так она смотрела на меня сбоку, сидя в машине, пока мы ехали сюда, на Ордынку, так смотрела, уже прыгнув на Женькину продавленную тахту и натянув простыню до подбородка, пока я неловко раздевался, стесняясь своего затекшего под одеждой тела… А потом она закрывала глаза, а когда открывала их через десять минут, или полчаса, или час, на сколько хватало моих уже тогда подходивших к концу сил, взгляд был другой, глаза светились, в них не было того спокойного внимания, с которым прицеливается снайпер, в них был только свет.
Потом мы быстро молча оделись — было трудно говорить в первые минуты после этого — и вышли на пылающую под солнцем улицу, сначала она, потом я. Лена сразу прошла за угол и ждала там, я сел в машину, сдал задним ходом, она ловко открыла дверцу, мгновенно оказалась внутри, и мы поехали, понемногу начали разговаривать, заговорились, смеялись чему-то…
Первой увидела она. Мы стояли на перекрестке, она замолчала на полуслове, потом тихо сказала что-то, я переспросил не расслышав.
— Из соседней машины какая-то женщина смотрит на нас, — повторила она тихо, будто ее могли услышать сквозь два стекла.
Рядом с нами стояло такси, и оттуда действительно смотрела на нас немолодая очень красивая женщина, золотистые ее волосы светились и вспыхивали на солнце. Красивая женщина, подумал я и только после этого узнал Нину. Она смотрела, напряженно щурясь, потом отвернулась, тут зажегся зеленый, такси дернулось и уехало, а я надолго застрял на перекрестке, так что сзади уже начали сигналить.
Не помню, о чем говорили мы с Леной в те полчаса, за которые я довез ее до дома, говорили ли вообще, не помню, о чем думал, пока один ехал домой, — кажется, мыслей не было вообще, меня начало знобить, и подступила тошнота, как бывает, когда заболеваешь гриппом.
Леньки дома не было. Нина сидела в большой комнате за столом, она не переоделась, только сбросила босоножки, и они валялись под стулом, одна упала на бок, была видна потертая подошва. Когда я вошел, Нина не подняла глаз, продолжала что-то сосредоточенно рассматривать на скатерти с тем же выражением, с которым она смотрела из такси в мою машину, — щурясь, словно пытаясь увидеть что-то трудноразличимое.
Я стал что-то бормотать — подвозил знакомую, не сразу разглядел Нину в такси, а когда увидел, было поздно окликать, еще какую-то явную ерунду… Нина молчала. Потом она подняла глаза, посмотрела мне в лицо, и я увидел то, что с тех пор вижу всегда: удивление и испуг, с какими обычный человек, не естествоиспытатель, разглядывает какого-нибудь огромного паука или ящерицу.
— Когда-то я стояла перед тем проклятым домом на Котельниках, — наконец выговорила она, и я вздрогнул, потому что знал, что она вспомнит об этом, а Нина продолжала говорить ровным, бесцветным тоном, словно пересказывала какой-то сюжет: — И думала, что не переживу унижения. Пережила… Тогда я поверила тебе, поверила, что больше никогда не придется испытывать то же самое. Ну, вот, дождалась…
Я молчал, у меня не было сил врать. И она замолчала тоже, снова принялась рассматривать что-то на скатерти. Прошло несколько минут в тишине. Я все еще стоял в дверях, пот лился по спине, рубашка намокла — в комнате было невыносимо душно.
— Некуда деваться, — сказала Нина, не поднимая глаз, словно говорила сама с собой. — Некуда деваться…
Она мельком взглянула на меня, будто забыла, что я здесь.
— Некуда деваться, — повторила она, — придется…
Она не закончила, и я так и не узнал никогда, что она хотела сказать.
В дядипетиной комнате я бросил портфель и, не раздеваясь, повалился на кровать.
Проснулся поздним вечером. В квартире стояла тишина, в комнате было темно. Полежал несколько минут, потом вспомнил, что произошло, вскочил, заспешил куда-то…
В большой комнате тоже не горел свет, но я разглядел, что сын спит на своей тахте, ее купили вместо детской кроватки, когда он еще учился в первом классе, и поставили вместо выброшенной железной кровати, на которой умерла мать. Ленька сбросил простыню — к ночи не стало прохладней — и лежал в одних плавках. Было слышно его дыхание.
Я вышел в прихожую и увидел свет, пробивающийся из-под кухонной двери.
Нина сидела в кухне за столом, перед нею стояла пустая чашка с коричневым осадком кофе на дне и лежала металлическая трубочка с валидолом.
— Пойдем спать, — сказал я.
Она посмотрела на меня, по лицу ее текли слезы, оно было уже все мокрое, глаза опухли.
— Не разговаривай со мной, — сказала она тихо, я еле расслышал ее слова. — Пожалуйста, не разговаривай со мной… Мне некуда уйти, ты знаешь. Я остаюсь с тобой, но, пожалуйста, пожалуйста, не говори мне ничего больше!
Так началось ее молчание. После того дня еще было много всего, она еще не замолчала окончательно, но началось тогда.
Никак не могу теперь вспомнить все последовательно. Помню только, что я впал в какой-то столбняк — ходил на работу, приходил домой, что-то ел, но все это делалось как бы само собой. Совсем бросил пить, не хотелось. С Леной, встретив ее в институте, здоровался, но бывать вдвоем мы перестали, просто я больше не устраивал свиданий, не ловил ее в коридоре, не назначал время, и она ни о чем не спрашивала, и постепенно мы отвыкали друг от друга, и очень скоро, недели через три, я заметил, что уже почти никогда не вспоминаю о ней, а если и вспоминаю, то вскользь — задумаюсь о чем-нибудь несущественном, и вдруг перед глазами возникнет лицо и растает, а я ничего не почувствую… По делу она общалась с моим замом.