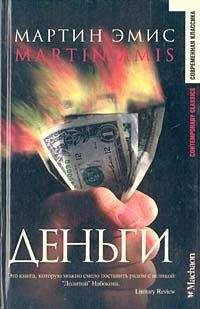Благодаря моему искусному перевоплощению в ценителя живописи, фанатика холста и вообще знатока искусства, значительную часть этого бурного периода Мартина Твен протаскала меня по разного рода высококультурным мероприятиям. Так что я в состоянии высококультурного шока, паники, аж в глазах темно, когда меня ведут по наборному паркету и дальше, по коридорам, мимо тайных видений в световых оборках. Приходится выстоять очередь и отвалить немалые деньги за право пообтираться среди переводчиков-сквернословов, японцев с улыбками, ослепительными, как фотовспышки, бюрократов, бесконечно льющих воду, всеядных любителей, студентов, одиночек, изголодавшихся баб, сосредоточенных потребителей и дегустаторов, извергнутых конвульсивным городом. Многие, кстати, выходцы из рабочего класса, начинающие движение вверх, большинство иногородние, в блестящих кожаных жилетках и светло-коричневых брючных костюмах. Мужики все как на подбор пухлые неудачники в комбезах пастельных тонов, лыбятся, шаркают, сонно кивают. Бабы — говорящие куклы, которые пищат «мама» и уссываются, если их перевернуть, с мордашками умильными и потливыми, измазанными молоками и меренгами. Героические потребители, они от всего норовят ущипнуть по кусочку, а теперь вот приспичило заценить кусочек искусства. Похоже, они думают, что достаточно протянуть руку. Не исключено, что так оно и есть. А мне — достаточно? Сомневаюсь. Я не из тех. Явообще не с той стороны Атлантики. Я из Лондона. Это в Англии. Я успел убедиться, если не путаю: вся эта хрень не для меня. Натуральная пытка. Пока другие наслаждаются искусством или читают книги, или слушают серьезную музыку, меня преследуют издевательские мысли о деньгах, Селине, эрекции, «фиаско». Я пытаюсь, но и это натуральная пытка. Крайне мучительная.
Какие только выставки мы с Мартиной ни посещали. Мы посетили конструктивистскую выставку где-то на восточной окраине. Вибрирующие разукрашенные столбы и вигвамы из двутавров, спазматически выгнутый железобетон, зазубренные заводные загогулины. Мы посетили модернистскую выставку рядом с Централ-парком. Обрывки игральных карт и силуэты шахматных фигур, пейзаж после битвы в преферанс и расколотые игральные кости, шулерские трофеи. Я чувствую обязанность выказывать энтузиазм, но пар давно вышел, наигранное красноречие иссякло, так что теперь я строю непроницаемое лицо, изображая предельную углубленность. Вчера мы посетили выставку классической обнаженной натуры, в мраморе. Приятно было посмотреть на женщин, умудряющихся по такой жаре сохранить хладнокровие. Впрочем, натура была не вполне обнаженной — кто-то нацепил им фиговые листочки, и совсем недавно. Смехотворно, объявила Мартина; все эти тряпочки, веточки, и придет же в голову. Не знаю, не знаю, сказал я; не горячись ты, надо же что-то и воображению оставить. Она не согласилась. Как по мне, понятное дело, они смотрелись бы куда краше в чулках с подвязками, в трусиках и туфлях на шпильке; но это уже эстетика. Завтра мы посетим большую новую выставку какого-то Моне или Мане, или Монеты, точно не помню.
И вот сижу я у Мартины в гостиной после легкого ужина, попиваю вино и задумчиво листаю «Фрейда», когда звонит телефон... Я больше не испытываю к Кадуте Масси сыновних чувств. Теперь я просто без ума от нее.
— Джон, вы для меня как сын, — сказала она мне сегодня за чаем. — Вот почему я не люблю Гопстера или Лесбию Беузолейль. Они напоминают мне о детях. А вы совсем нет.
Она поместила мою ладонь на искристый кашемир своей юбки — и мой хрен пьяно, кощунственно вскинул голову. Хорошо еще. что бронхи князя Казимира именно в этот момент решили переполниться мокротой и разбудить его. Кадута говорит мне, что Лорн стал звать ее мамой. Они подолгу, от души, беззаветно рыдают навзрыд. Лорн готов теперь жизнь отдать за Кадуту, но все равно настаивает на тех сценах нагишом.
— Но, мама, — говорит он, — это ведь может быть так красиво...
И звонит телефон. Звонит телефон, разрушая то, что можно назвать иллюзией взрослого мира, где я сижу с книжкой, разбросанными шахматными фигурами, последним актом «Отелло» и его цыганскими флейтами. Иногда я такой взрослый и сообразительный. Я читаю умные журналы и хожу смотреть фильмы для взрослых. Но звонит телефон, и это меня.
— Это тебя, — сказала Мартина и передала мне трубку, демонстрируя неодобрение или удивление (по-моему) темнотой вен с мягкой стороны предплечья.
Это меня — и угадайте кто.
— Откуда у тебя этот номер? — спросил я с искренним любопытством. Я был уверен, что никто не знает настоящей правды о моей тайной жизни. Я был уверен, что все думают, будто я каждый вечер шляюсь по бабам, гуляю напропалую и нажираюсь до усрачки. — Рыжая подружка подсказала?
— Забудь о ней. Мы... мы больше не видимся. Она говорит, ты стал такой зануда.
— Слушай, нам надо встретиться. Я готов, честное слово,готов.
Как я уже объяснял, вешать трубку без толку. Он просто будет звонить и звонить. Ему надо дать выговориться и выплакаться, выпустить пар, до последнего умиротворенного всхлипа, когда он сам будет готов попрощаться. Телефонный Франк любит подолгу распинаться о том, что это такое — быть неимущим. Телефонный Франк абсолютно неимущий. Денег у него нет. Всего остального — тоже. Когда шла раздача красоты, обаяния, удачи, бабок, то старина Франк оказывался в хвосте каждой очереди — о чем я не упустил шанса ему напомнить. Он парировал дотошным перечислением всех мучений, которым в один прекрасный день меня подвергнет, и я выслушал список от начала до конца. Потом возникла пауза и, клюнув носом, я вдруг сказал:
— Ты калека, правда?
— У меня... у меня... Ага, — ответил он.
«Ну и на что ты тогда рассчитываешь, мешок дерьма?» — хотел я поинтересоваться. Но сказал только (и совершенно искренне):
— Прости. Прости, пожалуйста.
— Один недовольный актер, — объяснил я Мартине (волновать ее по пустякам не хотелось). — Звонит все время и звонит.
— Тот, который одевается женщиной?
Подобные мысли и меня, конечно, посещали, но теперь я был уверен как никогда.
— Нет, — авторитетно заявил я. — Этот коротышка.
Я рассказал Мартине анекдот про Наба Форкнера. Кстати, мы подписали Наба, и Кристофера Медоубрука тоже, на роль двух главных громил. Работать с ними — ад кромешный, но мне серьезно кажется, что пару они составят убийственную. Наб, необъятный и безбашенный, и Крис, весь выгнивший и скукоженный. Ну точно я и Алек Ллуэллин, как мы там подбивали бабки... Сцена, когда они угрожают Давиду Гопстеру, — это действительно выглядит угрожающе. Снимем длинными планами, говорю я себе, пусть ощущение нарастает исподволь. Зависть, раздражение, ненависть нарастают исподволь.
Я выгулял Тень и лег в постель с Мартиной Твен. Нет, об этом, пожалуй, не буду. Пока что фишка в том, что мы просто ластимся и воркуем, воркуем и ластимся; сплошные, короче, телячьи нежности. Как и все девицы, она жуткая тепломанка — любит включить кондиционер, а под одеялом, наоборот, устроить сауну. Я обнимаю ее. Меня переполняет абстрактное вожделение и что-то еще, чего я не понимаю, не узнаю. Не человек и не животное, ни рыба ни мясо, пустое место — я лежу и обшариваю память в поисках поцелуев, мягких толчков, прохладительных ласк. А затем они превращаются в порнографию... Мой мысленный кинозал (эксклюзивный, посторонним вход воспрещен, но членский взнос минимален) делается затхлым и дымным — старый гадюшник с хлюпающими креслами и переполненными пепельницами, с треском пленки. Не происходит ничего. Каждую ночь я умираю смертью Дездемоны в горе подушек... Вчера я первым делом попытался задействовать утреннюю эрекцию. Можете себе представить, как Мартина удивилась. И что я при этом чувствовал. Ну да все равно ничего не вышло. Должен был пойти отлить. Иногда я думаю — может, это все из-за оперы, из-за того, что так долго крепился. Хотя, наверно, дело не только в этом. Да, пожалуй, не только в этом.
Глядите. Секундочку... А вот и снова я. Очень явственно себе это представляю. Со счастливым зевком я поднимаюсь с позопедического матраса последней старлетки. Принимаю таблетку стимулятора в натуральную величину, извиваюсь в джакуззи, полном витамина С. «Доброе утро, сэр»; это мой банщик или теннисный тренер, или тримминговщик моего пуделя, или кудесник кудрей, или юнкер юности. Я выпиваю стакан пьянящей низкокалорийной минеральной воды. Терапевт системы «дом-машина» берет меня за руку, и вот я уже рассекаю по бульвару Сансет, на башке колосится высокотехнологичный дерн, рот полон кобальта и стронция-90, плюс компьютеризованный инструмент ценой в миллион баксов, это бионическое средство устрашения покоится между ног. Операция удалась на славу. Я стал совсем другой человек, даже удивительно; мы все удивляемся.
Но дело в том, дело-то в том, что иногда у меня возникает ощущение, будто в Калифорнии я уже был — но это не помогло. Ощущение какое-то... протезное. Я робот, андроид, киборг, жертва массированной пересадки кожи. Где-то я читал — или кто-то сказал мне, или я слышал это краем уха в какой-то столовке, забегаловке, пивнухе (как бы то ни было, теперь это часть моей внутренней культуры), — что довольно многие земляшки, каждый пятый или каждый третий, а то и вообще каждый, полагают, будто все их мысли илоступки контролируются инопланетянами. И это не только обычные олухи без царя в голове или тронутые тряпичницы, но также затравленные слуховыми галлюцинациями судьи, пучеглазые плутократы и четвертованные чинуши. В прежние времена (жалко, что я так мало о них знаю. Вряд ли в нынешние времена будет шанс ознакомиться с прежними), так вот, в прежние времена эта ошалевшая покоренная шатия предавалась бы размышлениям о Боге и Сатане, о рае и аде, о судьбе духа; душу они представляли как внутреннее существо — влажно улыбающийся ангел в розовой ночнушке или гримасничающий, неприлично жестикулирующий косматый гоблин-онанист. Но теперь завоеватель — это цифровой призрак, обмотанный магнитной лентой и распечатками, и лик его инопланетный.