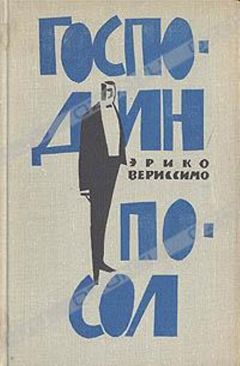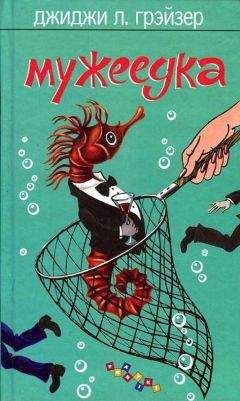Сейчас, глядя на площадь, Пабло Ортега вспоминал эти события последних дней. Головные боли возобновились, спал он мало и плохо, и единственным, кому он ещё мог открыться, был Годкин, оставшийся в Серро-Эрмосо по заданию Амальпресс.
Он не раз пытался увидеть мать, но та продолжала оставаться непреклонной, не позволяя Пабло переступить родной порог. Иногда они с Годкиным проезжали мимо дома Ортега-и-Мурат и сквозь решётки ограды видели в глубине парка старое, печального вида здание, увитое плющом, с закрытыми окнами…
Пабло часто сталкивался на улице со своими друзьями и знакомыми — людьми его круга и его возраста, и все они притворялись, что не замечают его или же, сталкиваясь носом к носу, смотрели на него как на постороннего.
Однажды сеньора — старый друг их семьи, мать многочисленного знатного семейства, подъехала к Пабло и, тыча в него пальцем, воскликнула: «Вам должно быть стыдно, Пабло Ортега, носить эту форму и путаться с революционной сволочью. Вам мало того, что вы убили дона Дионисио? Хотите убить и донью Исабель?» Прежде чем Пабло успел что-то ответить, дама повернулась, села в автомобиль и уехала. А Пабло счёл эту выходку просто смешной, как в дешёвой мелодраме.
Как-то он позвонил д-ру Моро, их семейному врачу, назвал себя и спросил, как поживает донья Исабель. Доктор лаконично ответил: «Она здорова настолько, насколько можно быть здоровой после смерти мужа и всех других огорчений». И повесил трубку.
Услышав шум шагов, Пабло обернулся. В кабинет вошёл помощник Роберто Валенсии.
— Начальник хочет вас немедленно видеть, капитан.
Ортега знал, о ком идёт речь, но, раздражённый этим «немедленно», спросил:
— Какой начальник? Барриос или Валенсия?
— Полковник Валенсия.
— Скажите, что сейчас приду.
Помощник удалился, а Пабло продолжал перебирать бумаги, притворяясь перед самим собой, что занят чем-то важным. Он знал: все здешние сотрудники сорвались бы с места по первому зову начальства, но Пабло ненавидел прусскую дисциплину, которую Валенсия стремился установить для своих подчинённых. Может быть, это и было необходимо, но неприятно. Лишь через пять минут Пабло спустился в кабинет Валенсии. Тот сидел один за столом, роясь в кипе бумаг, и не пригласил Пабло сесть. Несмотря на это, Пабло сел. Валенсия продолжал писать, будто не замечая Пабло. Так прошло несколько минут. Наконец Валенсия поднял глаза.
— Капитан Ортега, я ознакомился с вашими замечаниями на полях проекта нового закона о печати.
Пабло молча смотрел на Валенсию, а тот продолжал:
— Ваши замечания ошибочны и до смешного наивны.
— Это ваше личное мнение?
— Не только, это мнение Барриоса и других товарищей. В общем, это мнение Центрального революционного комитета. Должен поставить вас в известность — вы не подходите для поста, который занимаете.
— Почему?
— В частности потому, что вы неправильно понимаете свободу. Для вас, буржуазных либералов, свобода может существовать вне тесной связи с жизнью и благополучием народа. Что-то вроде драгоценности, которую хранят, но не носят, ибо она является семейной реликвией. На мой взгляд, это фальшивая драгоценность. И бесполезная.
— А вам не напоминает этот взгляд на свободу взгляды Чаморро и Карреры?
— Не будьте смешным! Научитесь мыслить диалектически, хотя от литератора этого требовать нельзя. — Он взял лежавшие перед ним бумаги, поднял их и бросил на стол — очевидно, обычная выдержка изменила Валенсии. — Значит, по-вашему, в Сакраменто можно осуществить нашу революционную программу, не ликвидировав предварительно коммерческих газет, которые всегда являлись рупором олигархии и иностранных компаний? По-вашему, мы позволим, чтобы эти мерзкие листки продолжали отравлять умы читателей ложью в интересах богатых и привилегированных классов? Пошевелите мозгами, Ортега! Свобода не может быть самоцелью. Это способ завоевать лучшую жизнь для большинства. И если она этому не послужит, грош ей цена.
— Значит, наша газета будет правительственным рупором, единственным и непогрешимым?
— А почему бы и нет? Или вы хотите, чтобы мы каждый день согласовывали с ЮНИПЛЭНКО и «Шугар Эмпориум» содержание наших передовых статей? Реакция живуча. Если мы не примем мер, она в конце концов заползёт в самую узкую щель, которую мы оставим в наших крепостных стенах. А если они снова будут хозяйничать в стране — не тешьте себя иллюзиями, — они нас расстреляют. Помните Морено? Он был слишком наивен, полагая, что сумеет осуществить программу социальных реформ, оставив свободу капиталистической прессе, которая стала нападать на него, едва он вступил в правительственный дворец, и не успокоилась, пока не уничтожила его.
Валенсия снова взял бумаги, аккуратно сложил их и передал Пабло.
— Просмотрите ещё раз и постарайтесь проникнуться революционным духом. Даю вам эту возможность.
— Я перечитывал проект больше десяти раз, моё мнение изложено на полях. Этот закон, с моей точки зрения, очень сильно отдаёт тоталитаризмом.
Роберто Валенсия усмехнулся, закурил сигарету и, выпустив дым, твёрдо взглянул в глаза Пабло.
— Свобода! — воскликнул он. — Свобода! Вы, интеллигенты, играете словами, как дети игрушками. Вдохновлённые этим мифом, буржуазные писатели уже несколько веков создают литературу, оторванную от классовой борьбы, от реальной действительности.
— Пресловутый социальный заказ! Но почему художник должен непременно чувствовать свою связь с коммунистической партией, будто она является единственным носителем истины? Почему он не может писать просто о человеке, о жизни во всём её разнообразии, о её противоречиях, бесчисленных лабиринтах и тайнах? Вы, коммунисты, жонглируете двумя шарами: историей и человечеством, но забываете о личности, считаете оправданным убийство человека для спасения человечества. Таким образом, смерть для вас тоже стала абстракцией.
Валенсия, казалось, находил удовольствие в споре. Лёгкая улыбка на секунду смягчила его жёсткий рот.
— Как-то в горах ты сказал мне, что считаешь себя гуманистом. Я тогда был слишком занят одной операцией и не мог терять время на теоретические дискуссии. Однако теперь я тебе возражу: гуманизм и либерализм — всего лишь роскошная мантия короля, который оказался голым. Вы, интеллигенты, тоже заворачиваетесь в эту мантию, стараясь избежать ответственности, отказываясь занять решительную позицию.
— По-вашему, я не занял такой позиции?
— Заняли, но против воли и без достаточной моральной подготовки, чтобы быть последовательным до конца.
— Что значит «до конца»? Признать законными убийство и насилие? Согласиться с тоталитарной системой правления? Нет, Валенсия, в этом на меня не рассчитывайте!
— Откровенно говоря, я ни в чём на вас не рассчитываю. И никогда не обольщался на ваш счёт. Слишком хорошо знаю людей вашего типа. Я уже говорил вам однажды и повторяю сейчас: вас больше интересует собственное спасение, чем спасение народа. Вы можете отрицать, но религиозное воспитание оставило в вашей душе семена, которые взошли чувством вины и желанием её искупить. Люди, подобные вам, никогда не смогут бороться за социальную справедливость.
Пабло Ортега встал.
— Как и положено литератору, — продолжал Валенсия, — вы не перестаёте играть словами. А при виде первой же капли крови вы и вам подобные недотроги съёживаетесь, заболеваете медвежьей болезнью и убегаете в кусты. — Жестом прокурора он протянул руку в сторону Ортеги. — Держу пари, что через несколько недель вы будете ворчать (если уже не ворчите), что это не та революция, о какой вы мечтали. И в конце концов при первой возможности удерёте в Майами, где станете загорать, ходить по казино, пописывать статейки против революционного правительства Сакраменто и сочинять поэмы о народе, который стонет под «коммунистическим сапогом». Своим мученическим видом вы завоюете расположение американских старушек, пекущихся о спасении «банановых республик», а ваши статьи очень хорошо будут оплачивать редакторы-янки.
— Вы ошибаетесь, Валенсия, я не уеду отсюда. Я останусь, чтобы получить то, что революция обещала народу. Я имею на это право.
— Вашего права я не оспариваю, но сомневаюсь, что вас хватит на это.
— Поживём, увидим…
Валенсия взял термос, налил в стакан немного воды, проглотил таблетку из железной коробочки и запил её водой. Его рубашка цвета хаки пропотела под мышками. Жужжал вентилятор. Вдруг зазвонил телефон, и Валенсия схватил трубку.
— Да, Валенсия… Что случилось? Что? Сейчас нет. Минут через пять вели ему войти.
Положив трубку, он сел на край стола и скрестил на груди руки.
— Послушайте, Пабло. Ваш друг Грис говорил, что есть насилие, которое он приемлет, хотя и без восторга. Это насилие справедливости над насилием бандитов. Сейчас перед нами стоят гигантские задачи, и мы не можем терять время на пустяки.