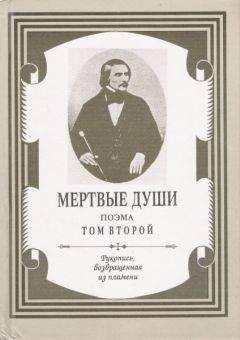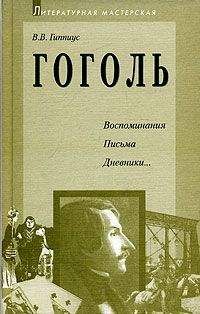— Теперь позвольте вас спросить, — сказал Муразов, — что ж Чичиков и какого роду <дело>?
— А <про> Чичикова я вам расскажу вещи неслыханные. Делает он такие дела… Знаете ли, Афанасий Васильевич, что завещание ведь ложное? Отыскалось настоящее, где всё имение принадлежит воспитанницам.
— Что вы говорите? Да ложное-то завещание кто смастерил?
— В том-то и дело, что премерзейшее дело! Говорят, что Чичиков и что подписано завещание уже после смерти: нарядили какую-то бабу наместо покойницы, и она уж подписала. Словом, дело соблазнительнейшее. Говорят, тысячи просьб поступило с разных сторон. К Марье Еремеевне теперь подъезжают женихи; двое уж чиновных лиц из-за неё дерутся. Вот какого роду дело, Афанасий Васильевич!
— Не слышал я об этом ничего, а дело, точно, не без греха. Павел Иванович Чичиков, признаюсь, для меня презагадочен, — сказал Муразов.
— Я подал от себя также просьбу, затем, чтобы напомнить, что существует ближайший наследник, но не надеюсь на успех.
— А вам и не надо, — сказал Муразов, — ваше от вас не уйдёт.
«А по мне пусть их все передерутся, — думал Хлобуев, выходя. — Афанасий Васильевич не глуп. Он дал мне это порученье, верно, обдумавши. Исполнить его — вот и всё». Он стал думать о дороге, в то время, когда Муразов всё ещё повторял в себе: «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!»
А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так всё налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложность и первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились улики на Чичикова в покупке мёртвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его ещё при таможне. Выкопали всё, разузнали его прежнюю историю. Бог весть откуда всё это пронюхали и знали. Только были улики даже и в таких делах, об которых, думал Чичиков, кроме его и четырёх стен никто не знал. Покамест всё это было ещё судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания: «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня: но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие. Обделываем всё». Записка эта успокоила совершенно его. «Этот человек, точно, гений», — сказал Чичиков.
В довершение хорошего, портной в это время принёс <платье>. <Чичиков> получил желанье сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообща им ещё большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нём тут щёткой, прибавив: «Ведь какой дурак, а в целом он составляет картину!» Фрак, казалось, был сшит ещё лучше штанов: ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавши весь его перегиб. Под правой мышкой немного жало, но от этого ещё лучше прихватывало на талии. Портной, который стоял в полном торжестве, говорил только: «Будьте покойны, кроме Петербурга, нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил: «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так, чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какого-нибудь «Карлсеру» или «Копенгара».
Чичиков великодушно расплатился с портным, и, оставшись один, стал рассматривать себя недосуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и con amore. Оказалось, что всё как-то было ещё лучше, чем прежде: щёчки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам; новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный <жилет> давал <тон> манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шёлк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налево — ещё лучше! Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так чешет по-французски, что перед ним сам француз ничего, который, даже и рассердясь, не срамит себя непристойно русским словом, даже и выбраниться не умеет на русском языке, а распечёт французским диалектом. Деликатность такая! Он попробовал, склоня голову несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения: выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши! В удовольствии, он совершил тут же лёгкий прыжок, вроде антраша. Вздрогнул комод и шлёпнулась на землю склянка с одеколоном; но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал: «К кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше…»
Как вдруг в передней — вроде некоторого бряканья сапогов с шпорами и жандарм в полном вооружении, как <будто> в лице его было целое войско.
«Приказано сей же час явиться к генерал-губернатору!» Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и чёрт знает что: целое войско в одном только! Он начал было возражать, страшило грубо заговорило: «Приказано сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькнуло и другое страшило, взглянул в окошко — и экипаж. Что тут делать? Так, как был, в фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору, и жандарм с ним.
В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте! Вас князь уже ждёт», — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошёл, думая только: «Вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь!» Сердце его забилось с такой силою, с какой не бьётся даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась пред ним дверь: предстал кабинет, с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, как сам гнев.
«Губитель, губитель! — сказал Чичиков. — Он мою душу погубит, зарежет, как волк агнца!»
— Я вас пощадил, я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы в острог; а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек.
Губы князя дрожали от гнева.
— Каким же, ваше сиятельство, бесчеловечнейшим поступком и мошенничеством? — спросил Чичиков, дрожа всем телом.
— Женщина, — произнёс князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову, — женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку.
Чичиков стал бледен, как полотно.
— Ваше сиятельство! Скажу всю истину дела. Я виноват; точно, виноват; но не так виноват. Меня обнесли враги.
— Вас не может никто обнесть, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может <выдумать> последний лжец. Вы всю свою жизнь, я думаю, не делали небесчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно, есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь! Нет, теперь полно! С сей же минуты будешь отведён в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен <ждать> разрешенья участи своей. И это милостиво ещё, потому что <ты> хуже их в несколько <раз>: они в армяке и тулупе, а ты…
Он взглянул на фрак наваринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил.
— Ваше сиятельство, — вскрикнул Чичиков, — умилосердитесь! Вы отец семейства. Не меня пощадите — старуха мать!
— Врёшь! — вскрикнул гневно князь. — Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь — матерью!
— Ваше сиятельство, я мерзавец и последний негодяй, — сказал Чичиков совершенно упавшим голосом. — Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но, вот бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уваженье граждан и начальства… Но что за бедственные стечения обстоятельств! Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушенье… враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была — точно вихорь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я — человек, ваше сиятельство!
Слёзы вдруг хлынули из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был, во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком, новых штанах и причёсанных волосах, изливавших чистый запах одеколона.