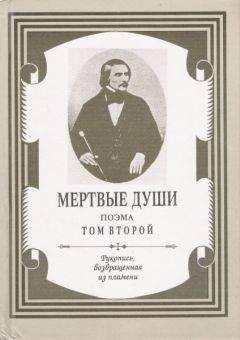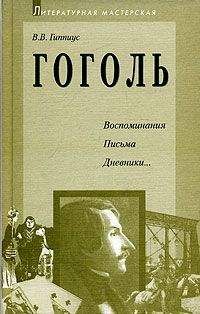— Нет, полно! — сказал он наконец, — другую, другую жизнь. Пора в самом деле сделаться порядочным. О, если бы мне как-нибудь только выпутаться и уехать хоть с небольшим капиталом, поселюсь вдали от… А купчие?.. — он подумал: «Что ж? Зачем оставить это дело, стольким трудом приобретённое?.. Больше не стану покупать, но заложить те нужно. Ведь приобретенье это стоило трудов! Это я заложу, заложу, с тем чтобы купить на деньги поместье. Сделаюсь помещиком, потому что тут можно сделать много хорошего». И в мыслях его пробудились те чувства, которые овладели им, когда он был <у> Костанжогло, и милая, при греющем свете вечернем, умная беседа хозяина о том, как плодотворно и полезно занятье поместьем. Деревня так вдруг представилась ему прекрасно, точно бы он в силах был почувствовать все прелести деревни.
— Глупы мы, за суетой гоняемся! — сказал он наконец. — Право, от безделья! Всё близко, всё под рукой, а мы бежим за тридевять <земель>. Чем не жизнь, если займёшься хоть бы и в глуши? Ведь удовольствие действительно в труде. И ничего нет слаще, как плод собственных трудов… Нет, займусь трудом, поселюсь в деревне, и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж в самом деле, будто я уже совсем негодный? У меня есть способности к хозяйству; и я имею качества и бережливости, и расторопности, благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться, чувствую, что есть. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, не отрываясь от того места и угла, на котором он постановлен.
И трудолюбивая жизнь, удалённая от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывши труд, человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провиденье за этот тяжёлый <урок>, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но… одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа — Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нём сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые, опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку, — это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, он пакостил и гадил. Непостижимое дело! С товарищами он был хорош, никого не продавал, и, давши слово, держал: но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением…
— Знаем всё об вашем положении, всё услышали! — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. — Ничего, ничего! Не робейте: всё будет поправлено. Всё станет работать за вас и — ваши слуги! Тридцать тысяч на всех — и ничего больше.
— Будто? — вскрикнул Чичиков. — И я буду совершенно оправдан?
— Кругом! Ещё и вознагражденье получите за убытки.
— И за труд?..
— Тридцать тысяч. Тут уже всё вместе — и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю.
— Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи… шкатулка… всё это теперь запечатано, под присмотром…
— Через час получите всё. По рукам, что ли?
Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно…
— Пока прощайте! Поручил вам <сказать> наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа.
«Гм! — подумал Чичиков, — понимаю: юрисконсульт!»
Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, всё ещё не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка: бумаги, деньги — и всё в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя: выбранил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, приказал приставить ещё лишних солдат для усиленья присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова; связал всё это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову, в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков, вместе с бумагами, получил даже и всё тёплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки: вечером театр, плясунья, за которою он волочился. Деревня и тишина стали бледней, город и шум — опять ярче, яснее… О, жизнь!
А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом; всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошёл самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошёл таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку.
— Давно ты здесь стоишь?
— С утра, ваше благородие!
— Долго до смены?
— Три часа, ваше благородие!
— Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы наместо тебя отрядил другого.
— Слушаю, ваше благородие!
И, уехав домой, ни минуты не медля, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах — сам чёрт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдал её двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьём, как следует, к часовым:
— Ступай, меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену.
Обменялся с часовым и стал сам с ружьём.
Только этого было и нужно. В это время наместо прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвизался в лице воина, юрисконсульт произвёл чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, <что> секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть ещё секретнейший чиновник, который на него доносит, — и всех привёл в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Всё пошло в работу и в дело: и кто незаконнорождённый сын, и какого рода и званья у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны и всё так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мёртвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба казались равного достоинства. Когда стали наконец поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный человек, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошёл с ума. Никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мёртвым не дает покоя, скупая какие-то мёртвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, укокошили неантихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны <быть> помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, — и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришёл откупщик.
— Пусть войдёт, — сказал князь.
Старик вошёл…
— Вот вам Чичиков! Вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится.
— Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело.
— Подлог завещания, и ещё какой!.. Публичное наказание плетьми за этакое дело!
— Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова. Но ведь это дело не доказанное: следствие ещё не сделано.
— Улика: женщина, которая была наряжена наместо умершей, схвачена. Я её хочу расспросить нарочно при вас. — Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину.