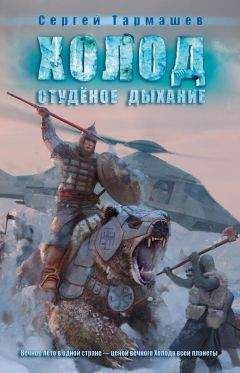Даже коршун, что кружит высоко, он всю жизнь там кружит, сторожуя. И коршун, и крикливый полосатый лунь: «Кики… Ки-ки…», пестрая гагарка у земляной норы, пестрый же удод – пустушка с длинным кривым клювом, малый жаворонок. Вот вспорхнул он, поет. Может, такой же, как Тимофей, седоклокий, тоже старик. Может, знакомец. Сколько их спасалось возле Тимофея, когда желтоглазый кобчик уже доставал их на лету. Падали рядом и давались в руки. И малое сердце колотилось отчаянно, а потом успокаивалось в человечьих руках.
День прошел незаметно. С вечерней зарею Тимофей пригнал овец на ночлег. Над кошарами, над базами, над овечьим тырлом стояла розовая от закатного солнца пыль. С горы спускалось лавиною темное козье стадо, неторопливо брели к базам коровы, летошние быки да телки, вторая отара грудилась у поилок. Скрипели отворяемые ворота, людские голоса вздымались над скотьим мыком и блеяньем: «Кызь-куда! Кызь-куда! Бырь-бырь! Ар-pa!» Садилось солнце, пыль оседала, от близкой реки наносило пресным теплом.
Ужинали во дворе хозяйского дома под навесом. Старинные могучие груши в белом цвету смыкались ветвями над головой. Через раскрытые ворота мимо веранды пробитая колея вела к базам да сараям, где стояли белая «Волга», красный «Запорожец», мотоцикл да мотороллер с кузовом – машинный двор.
Сели за стол втроем: Тимофей, хозяин, свежевыбритый, пахнущий одеколоном, и сухонький костлявый мужичонка с темным старческим лицом и пышной седой шевелюрой.
– Это наш Чифир, – представил его хозяин, поглаживая черные, аккуратно подбритые усы. Усы были густы и темны, в коротких же волосах на голове сквозила проседь. – Овечки как кормятся? – спросил он.
– Жаловаться грех, – ответил Тимофей. – Конечно, трава еще редковатая. Видно, холода стояли.
– Холодная весна, – подтвердил хозяин.
– Я и гляжу… Но пошла зеленка, и старюка есть. Берет овца, жаловаться грех.
Молодая женщина в легком коротком платье быстро накрыла стол, наливала горячий борщ в тарелки.
– Алик! – крикнул хозяин. – Ты где?!
– Иду-у! – издали, от базов, откликнулся сын.
Пахло свежесваренным борщом. Он даже на погляд был хорош, красный от помидоров и сладкого перца. Тимофей похвалил:
– Чую наш борщок.
– Зинаида у нас молодец, – поддержал его хозяин. – Повар высшего класса, – и, глянув на молодую женщину, не выдержал, цапнул ее рукой.
Зинаида увернулась. Тимофей, в городском житье наскучавший по привычной еде, хлебал жадно. Там, у детей, было, конечно, не голодно. Но борщ, какой всю жизнь дома варили, не получался.
– Варишь по-нашенски. Сама-то откель будешь? – спросил Тимофей.
– С Арпачина, – назвала Зинаида старинный большой хутор.
Там теперь размещалась центральная усадьба колхоза.
– С Арпачина? У нас там много родни. Ты чья будешь-то?
– Лифанова по мужу.
Тимофей задумался, но не вспомнил.
– Либо приезжие? А родов чьих? По отцу-матери?
– Мелешкиных.
– Так бы и говорила. Мелешкиных? Это каких? Ивана Архипыча или бабы Лукешки?
– Левона Тимофеевича, – тихо ответила женщина. – Помер он.
– Левона. Это Феня твоя мать. Бабу Акулину я знаю, ее сеструшка у нас в соседстве, Анна Аникеевна, крестила брата моего, Василия, – говорил Тимофей и теперь уже по-другому на женщину глядел, по-родственному.
Зинаида была молода, хороша собой: чистое лицо, сбереженное от солнца и ветра, пухловатые губы, тронутые помадой, светлые волосы, сплетенные в толстую короткую косу, руки и ноги, женская стать – все было налитое, крепкое.
– Так что, считай, родня, – с улыбкой закончил Тимофей. – Потому и борщ твой сладимый.
– Родня – значит родня, – согласилась Зинаида. – Буду по-родственному тебя кормить, с добавкой.
Тимофей и хозяин ели в охотку, а третий их сотрапезник, Чифир, вздыхал да ерзал, потом сказал нерешительно:
– Надо бы налить за знакомство. Все же новый человек. По русскому обычаю обязательно надо.
– По русскому обычаю? – переспросил хозяин.
– Да-да, – подтвердил Чифир. – Это у нас ведется.
– Раз так, нальем по рюмке, – согласился хозяин и тут же принес водки, разлив ее в малые стаканчики. – Но ты, Чифир, тоже для знакомства, будешь стих читать. Он у нас стих складывает, – объяснил Тимофею хозяин.
Зинаида засмеялась, уходя к плите.
– Водку не трогай, сначала стих читай, – приказал хозяин.
Чифир, покашиваясь на желанное питье и шумно нюхая его, торопливо заговорил:
Пасем овечью породу
Посереди донской степи.
Всему кавказскому народу
Даем в своих краях свободу.
Пусть нас кавказцы поминают
И водку чаще наливают!
Закончил он и, ухватив стаканчик, выцедил его, прижмуриваясь и морщась.
– Во! – горделиво сказал хозяин. – Какие у нас люди…
Подошел хозяйский сын Алик, стал выговаривать:
– Чифир, надо глядеть. Два ягненка хромают, камень попал, растерло, а ты не глядишь. Чай свой жуешь да глупости болтаешь.
Чифир пожал плечами.
– Вроде не хромали.
– Как не хромали, я-то увидел.
– Ты молодой, а у меня глаза плохо глядят.
– Очки купи, – ответил Алик. И отцу объяснил: – Я помазал черной мазью, надел чулок.
Отец покивал, одобряя. Зинаида сказала, посмеиваясь:
– А если тебе правда, Чифир, очки… Будешь как профессор.
– Себе одень, – отозвался Чифир. – На то самое место. Чтоб в потемках не заблудиться.
Горячего борща нахлебались вдоволь, ели мясо, яйца, запивая кислым да пресным молоком.
После ужина Чифир с Тимофеем отправились к себе, к вагончику. Там возле ступеней лежала коряга. На нее уселись и закурили.
– Тебя звать-то как? – спросил Тимофей.
– Ты чего, не слыхал? Чифир.
– Но Чифир – это ж не имя. Настоящее-то как?
– Вот оно и есть настоящее. Другое я забыл. А может, его и не было.
Тимофей лишь плечами пожал, а Чифир спросил:
– У тебя выпивки нет? Налил каплю. Лишь раздразнил.
– Откуда у меня?
– Ну, может, в запасе.
– Не запасаюсь.
Чифир стал охать, поглаживая колено, постанывать.
– Что с тобой? – спросил Тимофей.
– Зашиб коленку. – Чифир засучил штанину, обнажая иссохшую плоть. – Растереть бы одеколоном, да нету. Растереть бы, завязать, и до утра прошло. – Он говорил и глядел на Тимофея жалобно.
– Одеколон есть, тройной, для бритья. Не жалко, бери растирай. У меня мать-покойница тоже ноги тройным растирала.
Тимофей принес из вагончика пузырек одеколона, сам же вернулся в жилье. А когда он снова вышел, то Чифир уже довольно покрякивал, пустой флакон валялся рядом.
– Выпил? – удивился Тимофей.
– Изнутри растер, – ответил Чифир. – Теперь полегчает. Еще нету?
– У меня ларек, что ли?
– Садись тогда, покурим. Ты на меня не обижайся. Это ты вроде для знакомства поставил. Куплю – отдам. За Чифиром не заржавеет. Садись.
Тимофей послушно сел, Чифир продолжал:
– Ты не думай. Я не какой-нибудь чурбан. Есть у меня, конечно, имя. Но про это молчок. Жена меня ищет, понимаешь? Желает засадить. Такая вот, вроде нашей Зинки. Стерва. А дочек я люблю, у меня две дочки. И они меня уважают. Я им шлю письма, чтоб знали отца. Стихи придумываю. Вот послушай:
Дорогие мои дочурки,
Я пишу вам издалека,
Я сижу у горячей печурки,
Не могу приехать пока.
Но люблю вас со всею силой,
Как не любит вас стерва-мать.
Вспоминаю, как на руках носил вас,
И мечтаю снова обнять.
Чифир декламировал, размахивая руками, седые длинные волосы падали на лицо.
– Я тебе еще буду читать, – пообещал он. – У меня их целая тетрадь. Мы с тобой дружно будем жить, душа в душу. И мы всем покажем мужскую дружбу.
Лицо у Чифира было в мелких морщинах, словно жатая бумага, зубы прокурены, черны.
– Ты за сколько нанялся?
– Сто пятьдесят, – ответил Тимофей.
– Ты с паспортом?
– Конечно.
– Был бы у меня документ, я бы тоже не меньше брал. А без документа они хозяева.
– У тебя паспорта нет?
– В том-то и дело. Был бы паспорт, я бы…
– А где же он?
– Кто его знает. Может, тоже не было, – уклончиво ответил Чифир.
– Так ты напиши заявление в милицию. Заплатишь штраф, и дадут документ.
Чифир поглядел на Тимофея, покачал головой и сказал:
– Дура ты, дура деревенская. К легавым, значит, пойти. Да-а… С тобой поговори, ты научишь…
Тут же, у вагончика, слажен был простой очажок из камней. Чифир разжег огонь, поставил на камни жестяную консервную банку с водой.
– Чифирнем… – потер он руки. – Дело душевное. А то все учат да учат. Щенок этот учит. Эта стерва тоже влезает, – вспомнил он застольное. – Тоже мне хозяйка. Очки… У хозяина баба уехала домой, – объяснил он. – Там у них дом, старики. Ну, она и уехала с детишками. А эту шалаву, Зинку, сакманить прислали, на окот. Она и засакманила, командиршей стала. Мало старика, так она щенка к себе приманивает.
– Да он дите еще, – заступился Тимофей.
– Дите… Погляди, как он на нее зырит. А она виляет перед ним. Шалава она шалава и есть. Вроде моей. Тоже с одним связалась, а чтоб я не мешал, меня упрятать. Но нет… – погрозил он пальцем. – Номер не пройдет.