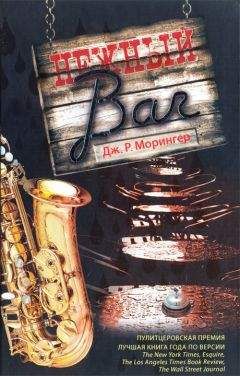Увидев Питера, я с облегчением заспешил к нему. Я уселся рядом с Питером — моим редактором, моим другом, — нуждаясь в его особой доброте и здравом смысле. Я стал придумывать, как мне ухитриться просидеть здесь весь вечер и всю ночь и не надоесть ему. Он спросил, как мои дела, и я начал отвечать, но Бобо утащил меня в сторону. Мы не виделись с Бобо много лет. Он рассказывал историю про Стива, но я не смог ее понять. Он был пьян и до сих пор страдал от последствий своего падения с лестницы в баре, а лицо его все еще было частично парализовано. Интересно, думал я, сравнивал ли он свое падение с падением Стива. Когда Бобо отпустил меня, я сказал Питеру, что в «Пабликанах» слишком часто падают. Не успел Питер ответить, как мы оба услышали Джорджетту, стоявшую у задней двери. Она плакала и повторяла снова и снова: «Мы потеряли нашего Шефа. Что же мы будем делать без нашего Шефа?»
Стерео играло траурную классическую музыку. Кто-то закричал, что мы должны слушать музыку, которую любил Стив. Элвиса. Джонни Престона. Один из барменов откопал диск со всеми любимыми песнями Стива. От этих песен всем стало веселее, но это было ужасно, потому что песни как будто оживили Стива. Конечно, Стив здесь. Мы бы с ним от души посмеялись над тем, как нелепо все происходящее, если бы нам удалось разыскать его в этой пьяной толпе.
Я заказал еще виски и встал рядом с Бобом Полицейским, который пил «Ржавые гвозди».
— Как долго, ты думаешь, продержится это заведение?
— Ты считаешь, «Пабликаны» закроют? Боже! Я об этом не задумывался.
Эта мысль пожирала меня. Я просто не хотел себе в этом признаться. Однако, когда Боб Полицейский произнес это вслух, я осознал как собственную скорбь, так и скорбь всех остальных. В ней присутствовал элемент эгоизма. Мы скучали по Стиву и оплакивали его, но также знали, что без него «Пабликаны» тоже могут умереть.
Ноги у меня подкашивались. Я поискал место, куда бы упасть, но мест не было. Казалось, что меня сейчас стошнит. Все в баре внезапно стало вызывать во мне отвращение. Даже от длинной полированной деревянной барной стойки у меня крутило в животе, потому что она напоминала мне гроб Стива. Я пробрался сквозь толпу к задней двери и поковылял к дедушкиному дому, где упал в дальней спальне. Когда я открыл глаза через несколько часов, я понятия не имел, где я нахожусь. В Йеле? В Аризоне? У Сидни? В моей квартире над греческим рестораном Луи? В квартире с Хьюго? Постепенно кусочки сложились в целостную картину, и я понял, что я у дедушки. Опять.
После долгого горячего душа я надел чистую одежду и вернулся в «Пабликаны». Было уже три или четыре часа утра, и все были там же, где я их оставил. Я пробрался в центр толпы и на том же самом месте у стойки нашел Боба Полицейского и Атлета. Они не поняли, что я сходил домой и вернулся. Они не знали, который час или какой день, и им было наплевать. Я пил с ними до рассвета. Они, похоже, не собирались уходить, но мне нужны были воздух и еда.
Я дошел до греческого ресторана Луи. За стойкой сидели пассажиры утреннего поезда, сосредоточенные и готовые начать новый день после восьмичасового сна. Я увидел английскую нянечку, с которой встречался, ту самую, которая разговаривала как Маргарет Тэтчер. Волосы у нее были мокрые, а щеки как красно-коричневые яблоки. Она откусывала маленькие кусочки от кекса и пила горячий чай из чашки. Она уставилась на меня:
— Ты откуда?
— С похорон.
— Черт возьми, радость моя, с чьих? Со своих собственных?
Через несколько недель, идя по Пландом-роуд, я увидел бледную, одутловатую луну, поднимавшуюся над «Пабликанами». Луна мелко подрагивала, будто ей слишком много налили. Я всегда искал знамения и старался распознать их значение, поэтому без труда смог найти объяснение этому знаку. Даже луна покидает бар. Но я проигнорировал его. В течение нескольких недель после смерти Стива я ни на что не обращал внимания, относясь к любым знакам и неприятным страхам так же, как Джо Ди относился к крикунам. Просто делал вид, что их не существует.
Но все равно смерть Стива — образовавшуюся пустоту, чувство утраты — невозможно было долго игнорировать. Хотя бы раз в день я думал о Стиве, о том, как он умер, и о том, что бы он сказал теперь, когда знал ответы на все вопросы. Я всегда придерживался романтической идеи о том, что в «Пабликанах» мы прятались от жизни. После смерти Стива я не мог избавиться от его голоса, звучавшего у меня в ушах, спрашивая, прятались ли мы от жизни или заигрывали со смертью. А может, это одно и то же?
В ноябре того года я часто смотрел по сторонам в баре, видел впавшие глаза и лица землистого цвета и думал, что, может быть, мы уже умерли. Я вспоминал Йейтса: «Пьянчуга — мертв, / А все мертвые пьяны». Я вспоминал Лорку: «А смерть все выходит и входит / И все не уйдет из таверны».[106] Совпадение ли это, что два моих любимых поэта изображали смерть завсегдатаем бара? Однажды я поймал собственное отражение со впавшими глазами и землистым цветом лица в одном из серебристых кассовых аппаратов. Мое лицо было, как луна, бледным и одутловатым, но, в отличие от луны, я так и не ушел. Бар представлялся мне подводной лодкой, застрявшей на дне океана, запас воздуха в которой заканчивался. Это образ, навевающий клаустрофобию, стал ярче, когда кто-то дал дяде Чарли кассету с песнями китов, и он вновь и вновь проигрывал ее на стереомагнитофоне.
От этих скрипов и щелчков, казалось, лопнут барабанные перепонки, и было такое ощущение, что киты где-то за дверью и плывут по Пландом-роуд, словно переднее окно бара было входом в порт. «Какое сладкозвучие! — говорил дядя Чарли. — Вы не возражаете, если я скажу „сладкозвучие“, правда? Разве это не мило — как они общаются между собой?»
Мы между собой общались далеко не так мило. Бар, полный виртуозных рассказчиков, теперь превратился в эхо-камеру долгого и утомительного молчания, потому что сказать можно было только одно, но ни один из нас не находил смелость, чтобы произнести это вслух. «Все переменилось». Смерть Стива стала первым звеном в цепочке перемен, к которым мы были не готовы. Его смерть изменила нас и изменила бар до такой степени, что мы не могли этого отрицать. Смех стал более резким. Толпа поредела. Люди больше не приходили в «Пабликаны», чтобы забыть свои проблемы или утолить печали, потому что «Пабликаны» напоминали им о смерти, о смерти Стива, о самом печальном событии в истории Манхассета. Боб Полицейский сомневался, сможет ли бар пережить смерть Стива. Бар еще стоял, но наше восприятие «Пабликанов» как безопасного убежища ушло навсегда. За столь же короткое мгновение, за какое упал Стив, бар превратился из убежища в тюрьму, что, впрочем, с убежищами случается нередко.
Чем больше терзали и раздражали меня эти мысли, тем крепче я задумывался. Пьянство по поводу похорон Стива продолжалось для большинства жителей Манхассета два дня, но у меня и через месяц осталось ощущение попойки. Сидя в поезде по дороге в «Таймс», страдая от очередного парализующего похмелья, я разговаривал сам с собой, с пристрастием допрашивал сам себя. Все эти интервью неизменно заканчивались одним и тем же тяжелым вопросом: Я алкоголик? Я так не думал. Если у меня и была какая-то зависимость, то это была зависимость от бара. Я не мог представить себе жизни без него. Я и помыслить не мог, что когда-нибудь перестану туда ходить. Куда же я пойду? И если я уйду, кем я стану? Я размышлял об этом все утро, а день проводил на работе, где из меня уже ничего не могло получиться, и к вечеру я начинал с нетерпением ждать момента, когда вернусь в «Пабликаны», чтобы утопить на дне бокала свои противоречивые чувства. Иногда я начинал потягивать коктейли еще на Пенн-стейшн и заказывал пару-тройку высоких бокалов «Будвайзера» «на дорожку». Иногда я отключался в поезде, просыпал свою остановку, и кондуктор будил меня среди ночи, когда поезд останавливался в депо. Тряся меня за плечо, кондуктор всегда говорил одно и то же: «Поезд зашел в тупик, парень».
Я больше не притворялся, что пью ради того, чтобы чувствовать себя своим в кругу мужчин, чтобы забыть тревоги дня или потому, что это был некий мужской ритуал. Я пил, чтобы напиться. Я пил, потому что мне не приходило в голову, чем еще можно заняться. Я пил так, как в последнее время пил Стив, чтобы забыться. В холодный декабрьский вечер 1989 года, за несколько дней до или через несколько дней после своего двадцать пятого дня рождения, я был в двух шагах от забытья.
Я сидел с Атлетом и Вонючкой. «У штурвала» стоял Генерал Грант. Было около трех часов ночи, и мы, кажется, говорили о войне. Я сказал, что мы часто говорим о войне, даже если якобы говорим о чем-то другом. Атлет заметил, что это естественно, потому что война — популярная тема для разговора. Жизнь и война. Бесконечная череда сражений, конфликтов, засад, разборок, перемежающихся слишком короткими периодами перемирия. Или, может быть, это сказал Генерал Грант. Атлет начал что-то говорить о Среднем Востоке, и я стал оспаривать его мнение не потому, что был не согласен, а потому, что опасался, что если не буду продолжать говорить, то стукнусь лбом о стойку.