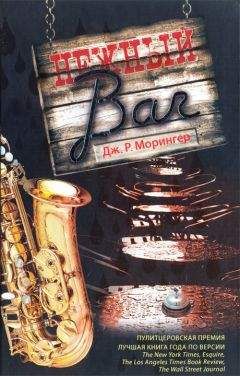Я отвел взгляд от матери и посмотрел на себя десятимесячного. Как этот беспомощный младенец превратился в беспомощного алкоголика? Почему я уехал так далеко, а оказался всего в ста сорока двух шагах отсюда, где мою шею чуть не свернул Вонючка? И что с этим делать? Кассета заканчивалась. Моя мать еще что-то сказала своему десятимесячному сыну, что-то важное, и он скорчил вопросительную гримасу. Я знал, что это была за гримаса. Я встал и проверил в зеркале над камином — гримаса так и осталась на моем лице. Я еще раз посмотрел на экран: моя мать держала своего сына за руку и махала ей в камеру. Она опять что-то зашептала ему в ухо, и его личико снова скривилось. Хотя он слышал ее голос, ее слова, он не мог понять их смысл.
Но я понял. Через двадцать четыре года я понял четко и ясно, что сказала мама. «Скажи „до свиданья“».
Когда в 1990 году под Новый год я говорил, что ушел из «Таймс» и уезжаю из Нью-Йорка, все реагировали по-разному. Шустрый Эдди отнесся к этому беспечно. Дон — по-доброму. Кольт спокойно. Генерал Грант выпустил дым из трубки и сказал, чтобы я им всем там показал. Атлет гордился мной. Питер попросил присылать ему время от времени главы моего романа. Джо Ди переживал и смотрел на меня так, как он смотрел на Макграу, когда тот плыл к отмели: я заплыл слишком далеко от берега. Я заверил его, что со мной все будет в порядке, и поблагодарил за все, а он наговорил целую кучу сентиментальностей про «вас, молодежь» своей мышке, хотя мне бы тоже хотелось послушать.
Вонючка если и отреагировал как-то, то я этого не заметил.
Боб Полицейский посмотрел на свои большие ступни и покачал большой головой.
— Без тебя здесь уже не будет так, как прежде.
Мы оба знали, что, со мной или без меня, здесь уже никогда не будет так, как прежде, в том-то все и дело.
Твою Мать обнял меня и сказал:
— Ты там бдишь зевать о себе снуть, мой яный дурк? И полегче на темперотах. И поосторожней, чтобы перзень не шибукнулся. Твоя дарча иногда будет с тобой, а в другие дни все будет пареново. Лучешь? Но что бы ни привылось — ты сулшаешь? — чтобы я не слышал, что ты пынул свой брондик в полмя, все из-за твого добатого рвана! Понял? И запомятуй, всегда запомятуй: Твою Мать. Чтоб тебя.
Реакция Далтона была более неожиданной.
— Ты даже не представляешь, какие кошмары там тебя ждут, — сказал он, указывая на окно. — Ты знаешь, что в некоторых районах страны бары закрывают в час ночи? В час! Там, в таких местах, как Атланта и Даллас, они подходят к тебе и забирают бокал с мартини прямо у тебя из рук — прямо с недопитым коктейлем.
— Я постараюсь об этом помнить, — сказал я.
Он не шутил. И рассердился, что я не принимаю его всерьез.
— Смейся сколько хочешь! Но знаешь, говорят: «Люди всюду одинаковые, куда ни поедешь». Так вот, это не так.
— Но они — те самые испытания, которые посланы нам, — сказал я. — Рильке.
Лицо Далтона просияло.
— У тебя все будет хорошо, — сказал он, пнув меня в бок. Чтобы придать своим словам большую значимость, ради нашей прошлой дружбы, он нежно добавил: — Придурок.
Дядя Чарли работал. Мы выпили по рюмке самбуки, и я сказал ему, что собираюсь навестить мать, пожить у нее какое-то время, а потом заехать к отцу, который жил в Северной Каролине и работал в ток-шоу на радио. Когда дядя Чарли спросил почему, я сказал ему, что со мной что-то не так и я хочу выяснить, что именно, а для этого нужно вернуться к истокам.
Из ноздрей дяди Чарли повалил дым. Он прижал ладонь к виску.
— Твой отец как-то приходил сюда. Я тебе не рассказывал?
— Нет.
— Он приехал в Манхассет поговорить с твоей матерью сразу после того, как они расстались. Я думаю, он искал примирения. Возвращаясь на станцию, он зашел к нам выпить виски. Осторожный такой. Сидел где-то здесь.
Я посмотрел на табуретку, куда показывал дядя Чарли. Я спросил, о чем они разговаривали, во что был одет мой отец, какое у него было настроение.
— Забавно, — сказал дядя Чарли, положив локти на стойку, — но единственное, что я помню, — что у твоего старика был удивительный голос. Просто бесподобный. Странно, правда?
— Да нет. Я тоже только это и помню.
Дядя Чарли закурил очередную «Мальборо». Он не мог бы выглядеть или говорить еще более похоже на Богарта, даже если бы старался, но, что поразительно, он старался. Это сходство было неслучайным. Наверное, дядя открыл для себя «Касабланку» тогда же, когда и я, и попал под очарование Богарта, и полюбил его, стараясь вести себя так же, как он, пока притворство не стало его второй натурой. Значит, мои периодические подражания дяде Чарли были, в свою очередь, второстепенными подражаниями Богарту. Я понял, какими запутанными могут быть эти звенья подражания. Мы все кому-то подражаем — кто Богарту, кто Синатре, кто Хемингуэю, Дьюку, или мишке Йоги, или Улиссу Гранту. Или Стиву. Поскольку все бармены в какой-то степени подражали Стиву, а мы все в какой-то степени подражали барменам, может быть, «Пабликаны» были просто чередой зеркал, наполненных отражениями Стива.
Я не остался до закрытия. Мне нужно было собирать вещи, потому что я улетал утренним рейсом. Я поцеловал дядю Чарли на прощание. Он стукнул кулаком по стойке и указал на мою грудь. Я прошел по бару, пожимая руки, и в горле у меня стоял комок. Я обнял Боба Полицейского и Атлета, но они не умели обниматься. Это было все равно что обнимать два старых кактуса.
— Давай о себе знать, — сказали они.
— Обязательно, — пообещал я, выходя за дверь. — Обязательно.
Мне до смерти хотелось выпить, но я не мог сделать заказ. Мой отец не пил много лет, и я не желал показать неуважение к нему, выпив у него на глазах двойное виски. Мы сидели в углу ресторана, потягивая колу, и я рассказывал ему про похороны Стива, про то, как я уехал из Нью-Йорка, про мою недавнюю поездку к матери. Было здорово с ней встретиться, сказал я, но в то же время неловко, потому что, прожив с ней несколько недель, я почувствовал себя дядей Чарли, и в результате мне стало стыдно и за себя, и за дядю Чарли.
Я не стал рассказывать отцу про нашу с мамой длинную прогулку, когда я в слезах просил у нее прощения за то, что не помогал. Я плакал у нее на плече, а она уверяла меня, что я не обязан заботиться о ней и должен, прежде всего, позаботиться о себе. Я бы рассказал отцу, но мне не хотелось ворошить прошлое.
Вместо этого я говорил про Макграу: про то, что он окончил университет в Небраске и переехал в Колорадо жить в горах вместе с Джимбо. Я сказал, что завидую их дружбе и свободе. Отец пробормотал что-то невнятное. Я продолжал говорить, стараясь не думать о том, каким приятным было бы на вкус виски, и пытаясь не беспокоиться о том, что отец не очень-то участвовал в разговоре. Он не слушал. Ковырял заусенцы, ломал хлебные палочки на кусочки, пялился на попку нашей официантки. Наконец он потянулся к ней. Я думал, он схватит ее за попу, но он положил ладонь на ее руку.
— Можно двойную водку с мартини? С двумя оливками.
Я уставился на него.
— Ах да, — начал он. — В самом деле. Я забыл сказать тебе. Время от времени я позволяю себе насладиться коктейлем. Видишь ли, я понял, что я на самом деле не настоящий алкоголик. М-да. Это хорошо. Когда у меня соответствующее настроение, я могу насладиться коктейлем…
Он все время повторял фразу «насладиться коктейлем» — может быть, потому, что она казалась ему банально обнадеживающей.
Сначала я встревожился, но когда мой отец насладился половиной своего коктейля, он начал наслаждаться и моим обществом. Неожиданно он стал принимать участие в разговоре. Слушать. Более того, он стал давать мне советы, смешить меня, говорить разными голосами. У меня на глазах он превратился в другого человека, в одного из завсегдатаев «Пабликанов», поэтому я уговорил его насладиться еще одним коктейлем.
— Черт, — сказал я официантке, как будто эта мысль только что пришла мне в голову, — я, пожалуй, тоже не откажусь от коктейля.
Я неделю провалялся на диване в квартире отца, читал его книги, курил его сигары, слушал его шоу по радио. Я осуществил свою детскую мечту: слышать его голос и знать, что, отработав свою смену, он вернется домой. Потом мы шли ужинать, наслаждались коктейлями и, пошатываясь, брели домой рука об руку. Мы слушали Синатру, выпивали еще по рюмочке перед сном, иногда смотрели телевизор. В квартире висели рекламные фотографии отца, и я обратил внимание на то, что в лучшие годы он был немного похож на Джеймса Гарнера.[107]
Он все еще прекрасно готовил и был гурманом, и после вечера в баре с удовольствием занимался каким-нибудь десертом, например творожным пудингом с амаретто или трубочками с кремом. Десерты получались великолепными, но большим наслаждением для меня было помогать ему на кухне, учась у него готовить. Мы учились друг у друга, как Рокфорд и его отец. Я знал, что причиной нашей вновь обретенной близости стали коктейли. Ну и что? Коктейли помогали нам расслабиться и преодолеть чувство вины, которое стояло за нашей любовью друг к другу. Коктейли помогали нам забыть то, что он сделал, и то, чего не сделал. Как же можно было не пить коктейли, если они нам так помогали?