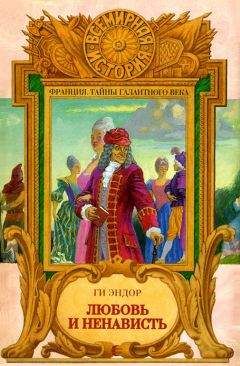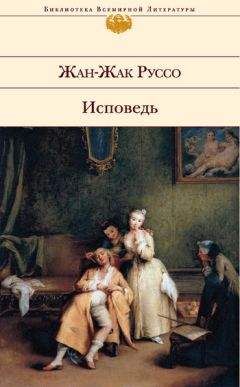Разительный контраст между отполированными мраморными членами его тела и его настоящими органами, обтянутыми грубой, уродливой кожей, только лишний раз подчеркивал похоронный аспект такого проекта, связанного с установлением его статуи. Такие мысли воскресили в его памяти кожу Нинон де Ланкло, которую он видел около семидесяти лет назад, когда его, совсем еще мальчика, привезли посмотреть на эту знаменитую гетеру. Ей тогда уже было восемьдесят пять. Он был так напуган, каждую секунду ожидая, как бы при малейшей улыбке ее высохшая, ломкая кожа не лопнула, залив кровью лицо.
Увы! Годы пролетели — не успел он и моргнуть, — и вот у него самого такая же тонкая, такая же высохшая, морщинистая и ломкая кожа, как у старой Нинон. Бритье для него стало настоящим мучением: приходилось растягивать кожу двумя хирургическими зажимами, чтобы избежать глубоких порезов.
Так размышлял он, сидя пред Пигалем. Иногда даже надувался, чтобы у него появилось хоть какое-то подобие губ. Иногда раздувал щеки, чтобы разгладить самые глубокие, самые неприглядные морщины.
От всего этого Пигаль приходил в отчаяние, он никак не мог зафиксировать у себя нужное выражение лица, ухватить насмешливую жалкую улыбку, это знаменитое философское выражение осмеяния вместе со слезами сострадания— таково было отношение Вольтера к человеческой жизни. Жизнь он считал великим обманом, к которому прибегнул Бог в минуту, когда у него возникло желание жестоко позабавиться. Но нужно принимать такую ситуацию с юмором, проявить свой сильный характер, энергию, волю, чтобы возвыситься и вселить уважение к нашему Творцу.
Тайная битва между философом и скульптуром могла продолжаться до бесконечности, если бы только Пигаль не нашел нужный подход к своему натурщику.
— Не приходилось ли вам, месье де Вольтер, когда-нибудь задумываться, — начал Пигаль, — над библейским рассказом в Исходе, повествующем о том, как Моисей задержался на горе Синай, чтобы получить от Бога Десять заповедей для иудеев? А Аарон тем временем создавал своего золотого тельца[244].
— Да, — ответил бесстрастно Вольтер. — Ну и что из этого?
— Ничего! Вам никогда не приходило в голову, что Аарону потребовалась уйма времени для этого.
— Ну-ну! — сказал Вольтер, и его лицо вдруг оживилось от мысли, что вот сейчас у него появится еще один аргумент, направленный против Библии.
— Я говорю как специалист, — продолжал Пигаль, еще энергичнее сбивая глину, чтобы запечатлить лицо Вольтера, озарившееся неподдельным интересом. — Я говорю как эксперт, и вы не можете в этом усомниться. Для выполнения этого задания мне понадобится шесть месяцев.
— Полгода?! — воскликнул пораженный Вольтер.
— Не меньше, — уточнил Пигаль. — Вы только вспомните, как все начиналось. Иудеи потребовали для себя идола. Тогда Аарон отобрал у них золотые сережки. Он вначале расплавил все золотые серьги, отлил тельца, а потом все подчистил и внес мельчайшие детали с помощью резцов, граверных инструментов.
— И на это ушло полгода? — спросил Вольтер.
— Абсолютно точно, — заверил его Пигаль. — Если только не предположить, что Бог сотворил для Аарона такое же чудо, как и для Моисея на Синае. Представьте себе: Аарону была нужна опока, чтобы влить в нее расплавленное золото, требовались весьма точные расчеты, сколько нужно золота из имеющегося в наличии, чтобы сделать самого большого, впечатляющего идола. Вполне естественно, он должен быть полым изнутри, ибо только так сможет воспользоваться всеми преимуществами исходного материала. Поэтому золотой лист нужно было раскатать до предела, но постараться не лишить его прочности в готовом изделии. Иначе если он вдруг треснет, то-то будет веселая сцена! А если ошибиться и не заполнить золотом всю опоку, то в результате мог получиться не телец, а какое-то невообразимое чудовище! И не забывайте, идола должны были повсюду возить, чтобы его могли лицезреть толпы иудеев. У них тогда еще не было помещения, чтобы его там поставить, не было храма.
Вскоре после того как Пигаль закончил работу, Вольтеру приснился странный сон, несомненно, под влиянием бесед со скульптором. Вот он стоит посередине большого кладбища, которого он прежде не видел. Громадное пространство, протянувшееся до самого горизонта, было засажено скорбными кипарисами. Больше всего на этом кладбище поражали кучи костей. Человеческих костей! Они белели в прохладной темноте. Скольким же людям принадлежали все эти кости? Сколько же живых глаз глядели из глазниц на наш яркий мир? Это было не обычное кладбище, оно предназначалось для массовых жертв. Кладбище для тех, кто погиб во время массовых кровавых расправ. Нет, они не убиты Богом. Они убиты человеком, который соперничает с Богом, пытаясь доказать, что он более жесток и безжалостен, чем Бог. Сколько громадных холмов из костей! И подумать только, все эти люди умерли молодыми, в бесконечных, организованных человеком войнах.
Здесь покоятся кости и тех трех тысяч евреев, которые были убиты по приказу Моисея за то, что они плясали перед золотым тельцом. А там, дальше, кости бесчисленных жертв христианского религиозного усердия: жертв борьбы с язычеством, с иудаизмом, магометанством[245]. И жертвы самой кровавой битвы против ереси. Христиане против христиан! Фанатизм против фанатизма!
Самый большой холм — это кости двенадцати миллионов американских туземцев, которых убили за то, что они не хотели креститься и не желали отдавать свой континент христианам. И свое золото. Настолько был отвратителен этот спектакль человеческого варварства (христианского варварства), что Вольтер не смог сдержать слезы. Но в эту минуту он услыхал, что кто-то плачет рядом с ним. Оглянувшись, он увидел человека лет тридцати пяти с приятными чертами лица, который стоял перед этими холмами костей и смотрел на них с таким состраданием, словно у него от этой жуткой картины разрывалось на части сердце.
Казалось, он сам стал жертвой фанатизма, так как на руках и ногах его были видны следы жестоких пыток, они все распухли и сильно кровоточили. Вольтер сразу узнал этого человека. Это был Иисус! Что такое? Вот этот иудей, ставший причиной стольких убийств, теперь рыдает над делом рук своих? Вольтер не смог сдержаться и не крикнуть ему:
— Лицемер! Должен ли ты проливать крокодильи слезы над жертвами собственной безумной ярости?
— Над моими жертвами? — мягко переспросил Иисус, глядя на Вольтера ясными глазами, в которых сквозил легкий упрек.
— Да! — закричал Вольтер. — Неужели ты станешь отрицать, что все эти люди не умерли из-за насаждения твоей новой религии?
— Какой такой новой религии? — спросил Иисус. — Я никогда не проповедовал ничего другого, кроме как «любите Бога всем своим сердцем и своего ближнего как самого себя». Неужели вы называете новой религией то, что известно людям с начала времен? Разве я не говорил, что пришел не отринуть закон, но исполнить его?
— Да, — сказал Вольтер, — но разве ты не написал, что принес не мир, но меч?
— Я никогда ничего не писал в своей жизни, — тихо возразил Иисус. — Ну а что до меча, то у меня его никогда не было.
— Ну а эти скелеты, — настаивал на своем Вольтер, — разве эти люди приняли смерть не во имя твое? Разве ты не считаешь себя за это ответственным?
— Как это так? — спросил Иисус. — Разве я кого-нибудь убил? Разве просил кого убить во имя мое? Разве я не пришел, чтобы умереть за других, а не просить других умереть за меня?
— Но ты же не станешь отрицать, что твои последователи умертвили вот эти горы индейцев, чтобы забрать у них золото?
— У меня никогда не было золота, — ответил Иисус. — Я никогда не желал его. Всю жизнь я прожил в нищете, точно как и мои спутники.
— Но в таком случае те, кто называет себя христианами, не исповедуют твою религию?
— Если они любили Бога, — сказал Иисус, — если они воздавали добром за зло, то тогда они исповедовали такую религию, что и я.
— Тогда что ты скажешь о кровавых битвах между твоими Церквами? — спросил Вольтер. — Что скажешь о великих расколах в христианстве? О миллионах тех людей, которые требуют поклоняться тебе на латинском? И о других миллионах, которые утверждают, что тебе можно по-настоящему поклоняться только на греческом? И еще другие миллионы, которые говорят…
— Я сам не знал ни греческого, ни латинского, — признался Иисус. — Я говорил только на языке своей родины.
— Ну а что ты скажешь о тех, которые утверждают, что тебе не должны поклоняться такие, кто не отказываются от мяса по пятницам?
— Я всегда ел то, что мне давали, — ответил Иисус. — Я был слишком беден, чтобы выбирать пищу для себя.
— Но разве для того, чтобы любить Бога всем своим сердцем, как ты того требуешь, не следует ли уединиться в монастырь? — не унимался Вольтер. — Разве не так ты говоришь?