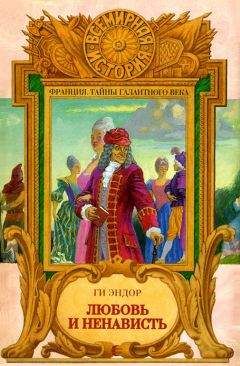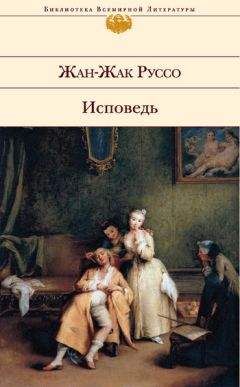— Но разве для того, чтобы любить Бога всем своим сердцем, как ты того требуешь, не следует ли уединиться в монастырь? — не унимался Вольтер. — Разве не так ты говоришь?
— Почему же? — ответил Иисус. — Я никогда не считал, что нужно жить отдельно от людей.
— Или, по крайней мере, совершить паломничество в твою церковь в Риме?
— Я не построил ни одной церкви, — ответил Иисус. — И никогда не совершал паломничества. Если Бог повсюду,
то почему нужно отдавать предпочтение одному месту по сравнению с другим?
— А что ты скажешь по поводу своих янсенистов и иезуитов? — продолжал его пытать Вольтер. — Что скажешь о католиках, о протестантах? О греческих ортодоксах[246] и…
— Что касается меня, — отвечал смиренно Иисус, — то я никогда не делал различия между иудеем и самаритянином[247]. И я не вижу, почему те, кто считают себя моими последователями, должны поступать иначе.
Вольтер уже хотел было броситься в ноги Иисусу, закричать ему:
— Тогда позволь мне стать твоим последователем! Ибо, как и ты, я не христианин!
Но в эту секунду его сон пропал.
Он лежал в своей кровати, как и до этого. Но он чувствовал внутри себя какую-то теплоту, вызываемую, вероятно, свечением, — он чувствовал себя наполовину опечаленным, так как сумел примириться с Христом. Но все равно его враждебность к Церкви не исчезла. Только недавно он прочитал проповеди двух великих французских проповедников, Будалу и Массиньона, и не нашел в них ничего, кроме яростных нападок на половую развращенность, и ни одного слова против войны.
Вольтер теперь чувствовал, что его смертный час быстро приближается. Как долго он еще протянет? Может, еще несколько лет? Его организм работал уже плохо, так что он постоянно повторял: «Я живу теперь только от клизмы к клизме». Он иногда даже отказывался от еды, чтобы избежать страшных колик в кишечнике.
Каждый болезненный приступ напоминал ему о том, что он хотел позабыть.
«Нельзя все время думать о смерти, — писал он мадам дю Деффан, старой, ослепшей даме, которая ужасно боялась умереть. — Что такое, в конце концов, смерть, если не сон, после которого не просыпаются? И как мы не чувствуем себя, когда спим, так не будем чувствовать себя, когда наступит смерть».
Конечно, это было слабое утешение, он сам постоянно только об этом и думал. Вольтер знал, что наступило время нанести последний, решающий удар по фанатизму. Выпить на глазах у всего мира болиголова и тем самым продемонстрировать, что человек может умереть по своей воле без всяких предрассудков. Но для этого нужно ехать в Париж, чтобы умереть там на виду.
Как это сделать? Как ему снова заручиться расположением Людовика XV? Несмотря на свою дружбу с мадам де Помпадур, он так и не смог найти ни одного достаточно влиятельного лица, чтобы заставить короля изменить его отношение к себе, пошатнуть ту твердую позицию, которую занял монарх, раздосадованный одним из памфлетов Вольтера. «Неужели нельзя заставить этого человека закрыть рот?» — спрашивал король.
Вот как обстояли дела. И даже когда Людовик XV умер и на трон взошел Людовик XVI, который проявлял уважение ко всем ученым мужам, с одним, правда, исключением. Этим исключением был Вольтер. Новый король даже отказывался от выезда в театр, если ему сообщали, что будут давать пьесу Вольтера.
Но друзья все равно звали Вольтера в Париж. Они убеждали его:
— Кто посмеет остановить вас? Что они могут с вами сделать? Власти не посмеют арестовать человека вашего возраста, пользующегося всемирной славой.
У Вольтера из головы не выходили роскошные, пышные похороны Ньютона. Нужно очень осторожно играть в карты, чтобы каким-нибудь взбалмошным поступком не разрушить в последний момент свою карьеру, которую он с таким старанием, с таким успехом возводил всю свою жизнь. Нужно умерить нападки на Церковь, чтобы избежать опасности, — ведь ему в таком случае обозленные церковники могли отказать в христианском погребении и выбросить его труп на свалку.
— В Париже живут сорок тысяч фанатиков, — убеждал он друзей. — По едва заметному кивку одобрения властей все они принесут по вязанке хвороста на место моего сожжения, чтобы устроить такой костер, который не снился ни одному еретику в истории.
— Ну а что вы скажете по поводу восьмидесяти тысяч ваших сторонников? — возражали его друзья. — Не думаете ли вы, что каждый из них принес бы по паре ведер с водой, чтобы погасить этот громадный костер? К тому же искупать еще и сорок тысяч ваших фанатичных врагов?
Да, да, но все равно в конце придется предпринять такой решительный шаг. Только нужно все очень точно рассчитать по времени, чтобы не ошибиться.
А пока ему придется смириться с тем, что Руссо живет в Париже! Он писал своему старому другу герцогу Ришелье: «Как вам нравится такое состояние дел? Этот подмастерье часовщика, которого дожидается ордер на арест, живет в Париже, а я не могу!»
Это было правдой. Полагаясь только на честное слово Жан-Жака, что он ничего не будет писать или, во всяком случае, публиковать, власти дали ему разрешение проживать в Париже. Гарантами выполнения данного обещания стали князь де Конти и несколько его высокопоставленных приятелей.
Мог ли Вольтер воспринимать все это иначе, чем личное оскорбление? Что он мог еще сделать? Это похоже на страсть Жан-Жака к мадам д'Удето, которая не объяснялась ничем другим, кроме как ненавистью к Вольтеру.
Только представьте себе, что человек, страдающий настоящей манией жить в сельской местности, вдруг переезжает в город, в самый населенный город на Европейском континенте, человек, который не скрывает своей ненависти к Парижу, ругает его в своей «Новой Элоизе» последними словами, выражая на каждой странице все свое презрение к нему… И тем не менее он едет в Париж. Для чего? Не для того ли, чтобы продемонстрировать еще раз, что в их битве он еще способен одержать верх над Вольтером? Руссо полон решимости не пропустить представившегося ему случая, чтобы отомстить Вольтеру за то время, когда он, уроженец Женевы, не мог въехать в родной город, а Вольтер запросто мог в него въезжать и выезжать оттуда. А теперь Вольтер, уроженец Парижа, не мог въехать в Париж, а Руссо пользовался полной свободой въезда и выезда.
Нет, не может быть никакого иного объяснения, кроме личного мотива, — ведь этот человек, любитель природы, собирается жить в среде самого искусственного общества во всем мире! Но, само собой, у Руссо найдется какое-нибудь другое объяснение для тех, кто осмелится указать на еще один парадокс в его жизни.
— Где же еще я смогу быть в полном одиночестве, как не здесь, в Париже? — резко возразит Жан-Жак. — Здесь я настолько же затерян, как если бы вдруг оказался в горах Кавказского хребта!
Глава 37
ДАЖЕ КАМЕННЫЕ ПЛИТЫ ПРЕЗИРАЮТ МЕНЯ
В определенном смысле Руссо говорил правду. Он на самом деле был одинок в Париже со своей Терезой. Они жили в крошечной квартирке на пятом этаже в доме на улице Платьер, ныне улица Монмартр. С самого начала он, конечно, стал сенсацией. Богатые женщины, как и многие годы тому назад, поднимались по ступенькам крутой лестницы к нему, чтобы попросить его переписать для них ноты. И все это только для того, чтобы посмотреть на знаменитого Руссо, а он чувствовал себя таким, как когда-то давно, и нетерпеливо хрипел в ответ:
— Ладно, ладно. Зайдите месяца через три!
— Через три месяца? — недоуменно переспрашивали заказчицы. — Так долго? Переписать всего двадцать музыкальных страниц?
Тогда он резко протягивал им листки обратно.
— Поищите кого-нибудь еще, — говорил он. — Есть копиисты, которые выполняют работу гораздо быстрее. И лучше. Те, кому она нужна больше, чем мне.
Но они не забирали заказы назад и старались как можно дольше поговорить с этим человеком, чтобы понять, как живет эта знаменитость. Две крошечные комнатки, окно, выходящее на мансарду, двуспальная кровать, аккуратно застеленная чистым покрывалом из индийского хлопка, миниатюрная кухонька. Повсюду все блестит благодаря стараниям Терезы. Вот кабинет, который служит им еще и столовой. У окна письменный стол, где великий писатель переписывает ноты и занимается своими гербариями.
— От всего этого разрывается сердце, — призналась одна посетительница.
Но Руссо не давал никакой возможности тем, кто хотел постоянно держать его под прицелом общественного мнения. Вскоре на него вообще прекратили обращать внимание, даже тогда, когда он посещал самые знаменитые кафе и заказывал там себе чашечку шоколада и приглашал одного из посетителей сыграть партию в шахматы. Которую он, конечно, выигрывал без особого труда, так как до сих пор не утратил мастерства, приобретенного годы назад. Пару раз Руссо устроил чтение отрывков из своей «Исповеди», подчиняясь желанию своих почитателей из среды аристократов. Все слушатели были настолько очарованы, что чтения продолжались иногда по восемнадцать часов кряду с небольшими перерывами, чтобы что-нибудь выпить и перекусить. Среди аудитории не было ни одного человека, который при этом не прослезился бы.