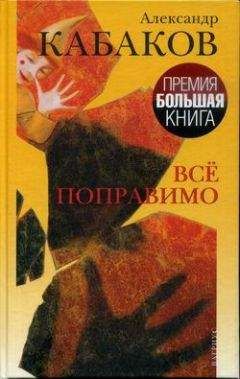И уже минут через сорок я жутко напился.
На следующий день ничего не помнил, а уж теперь не помню тем более — подходили какие-то знакомые, вроде бы и я всем рассказывал, что, представляете, вот в Австралию уезжает человек, это ж надо! Потом, кажется, сидел до закрытия один, продолжал пить, рассуждал — возможно, вслух — о предательстве. Я не предатель, упорно объяснял я не то Лене, не то Нине, просто я увлекаюсь, я же не предаю с какой-то целью, а вы все предавали меня сознательно, вы мстили…
Ничего я не помню, ничего я, возможно, тогда никому и не объяснял, это теперь я все придумываю.
А утром я проснулся и увидел, что Нина стоит надо мною и держит связку Женькиных ключей, и я сразу протрезвел, и все понял, и начал что-то городить, уверял, что это ключи от нашего рабочего подвала, но уже потому, что я так сразу начал оправдываться, любому стало бы все ясно, если с чудовищного похмелья человек так складно рассказывает, значит, он врет, а Нина вообще всегда безошибочно чувствовала мою ложь, и уж ее-то обмануть не стоило и пытаться.
— Это снова она, — сказала Нина и разжала пальцы, ключи, тихо звякнув, упали на подушку рядом с моим лицом. — Все снова… Этому не будет конца.
Пожалуй, это были ее последние важные слова, обращенные ко мне. Только какая-нибудь крайняя практическая необходимость может теперь заставить ее произнести фразу или две, но и при этом она не называет меня по имени, а просто сообщает нечто в пространство. Например, что уезжает — Нина, что бы ни происходило, как бы плохо себя ни чувствовала, раз или два в год ездит за границу. Время от времени она выбирается и просто в город, видится там, насколько я знаю, с немногими оставшимися в стране и имеющими время посидеть с нею в кафе подругами. Но о таких поездках она меня в известность не ставит, я сам, вернувшись вечером, догадываюсь по некоторым признакам, что днем ее несколько часов не было дома.
Но тогда она ошиблась — это был именно конец. Через какое-то время я заметил оцепенение, в которое всегда впадаю в невыносимых ситуациях, так, видимо, устроена моя психика — срабатывает защита от перегрузки, и все отключается. В таком оцепенении, собственно, я нахожусь и сейчас…
Работал я невероятно много, разворачивался кооператив, потом наше первое эспэ, с поляками, потом второе, уже с немцами, потом появился, возник из киреевского прошлого Рустэм… Но, кроме работы, уже не было ничего. Женщина могла возникнуть, но это длилось не дольше одной ночи, в какой-нибудь деловой заграничной поездке, переводчица из местных русских или кто-нибудь в этом роде, а через два дня я не мог — и не пытался — вспомнить ни лица ее, ни имени. В Москве мелькали какие-то уж совершенно непотребные, длинные, тонкие, как из рекламы, но с грубыми деревенскими лицами, они появлялись в саунах, без многочасового сидения в которых не обходились тогда никакие деловые отношения, или в ресторанах вдруг почему-то оказывались за столиком, их имен я не только не помнил наутро, но, мне кажется, и не спрашивал, а лиц не видел.
С Ниной мы с того утра стали жить в разных комнатах, она осталась в дядипетиной, а я окончательно обосновался в большой. Мы не разговаривали и почти не виделись — я уходил рано, приходил среди ночи, она еще дорабатывала в своем издательстве, но в основном возилась с верстками и сверками дома. Иногда, сварив себе утром кофе и быстро глотая его на кухне, я видел ее, в коридоре мелькал халат, и я спешил уйти, пока в ванной шумел душ.
И постепенно жизнь застыла, ее уже нельзя было изменить.
А потом был построен дом. Когда я решил его строить, мы, кажется, все же начали разговаривать, Нина оживилась, мы ездили вместе по пригородам, еще не сплошь заставленным особняками, выбирали место, она меняла что-то в проекте… Я надеялся, что жизнь восстановится, уже тогда я хотел только этого. Но после переезда за город стало еще хуже. Не помню точно, наверное, в то время я и начал думать, что она не просто обижена, никакая обида, казалось мне, не может держаться так долго. Не помню, как я уговорил ее пойти по врачам… И врачи подтверждали мое предположение, но как-то невнятно — да, возможно, это болезнь, однако, видите ли, в таких случаях трудно провести границу между тяжелым, но не патологическим состоянием и болезнью…
Почему мы не развелись, зачем я врал, выкручивался, упрашивал, ради чего она мучилась, изводила себя, сходила с ума — но отчего же не расходились? Все знакомые годам к сорока поразвелись, поженились снова, многие и снова развелись… Что удержало нас?
Какое-то время назад я, кажется, понял. И с тех пор больше никогда не задаю себе этого вопроса, уж больно нелеп ответ, до которого я додумался.
Такой любви не бывает, да мало ли чего не бывает, а есть.
Глава седьмая. Сослуживцы
Те, кто знают меня давно — Ленька, Игорь, изредка встречающиеся институтские коллеги, — говорят, что у меня здорово испортился характер. Странно было бы, если б этого не произошло… Я и сам замечаю, что чем дальше, тем больше меня раздражают самые невинные вещи, но поделать с собой ничего не могу.
Один малый из нашего института, способный был ученый и парень остроумный, стал часто болеть, врачи никак не могли поставить диагноз — то желудок, то сердце, наконец сказали, что тяжелый невроз, уложили в знаменитую в интеллигентских кругах Соловьевку, в клинику, где тогда, в семидесятые, модно было отлеживаться от неприятностей, клали на месяц с лишним и бюллетень давали. Я заехал его навестить, у нас были полуприятельские отношения. Выглядел он прекрасно, все время шутил, говорил, что теперь у него вообще нет нервной системы, осталась одна пищеварительная. Но почему-то было понятно, что не все так хорошо. Я запомнил еще одну его шутку: ну, сказал он, ладно, я верю, что у меня невроз и депрессия, я даже верю, что это можно вылечить таблетками и прогулками перед сном, но разве оттого что я вылечусь, наш ученый секретарь перестанет быть мудаком? Через год он покончил с собой, на рассвете выбросился из окна своей квартиры на двенадцатом этаже, в которой поселился за месяц до этого, семь лет ее ждал после развода, комнаты снимал…
Вот и я никак не могу убедить себя в том, что вся окружающая дрянь только кажется мне такой, а на самом деле это у меня характер паршивый, старческая брюзгливость и усталость. Ну, например, дикая мода на всякую театральщину в наших дорогих ресторанах, костюмированные официанты, декорации, какое-то барахло украшает зал — да не во мне дело, а в том, что мерзость это, глупость и дурной вкус! Да, плохой у меня характер, брюзга я, но ведь за границей же этого нет почему-то! Там я и не раздражаюсь. Вернее, раздражаюсь, конечно, но там другие причины…
Нам определили отличный стол, на втором этаже в дальнем левом углу, наверное, рустэмовская Роза Маратовна еще с утра заказала, а со мной он советовался для видимости. Наряженные опереточными лакеями официанты работали, надо отдать должное, умело, раздражение мое понемногу прошло.
Рассаживаемся мы привычно, в таком же порядке, в каком садимся на совещаниях. Тут только я замечаю, что не пришел Валера Гулькевич, — и немедленно, хотя не говорю ни слова, получаю от Рустэма пояснения: у Валеры семейное торжество какое-то, у тещи, что ли, юбилей, он никак не может, очень жалел.
— Куда тебя черти унесли днем? — успеваю спросить я Игоря, пока все двигают стулья, устраиваясь.
Он глядит на меня удивленно.
— Меня Рустэм еще с утра попросил… — начинает он, но я уже отворачиваюсь, давая ему понять, чтобы замолчал, потому что у Верочки слух отличный, а мне уже и так все ясно: Рустэм к сегодняшнему вечеру подготовился отлично, все продумал, в частности, позаботился о том, чтобы мы с Игорем не обсудили общей линии поведения. Через несколько минут, когда все углубляются в меню, я, будто советуя Кирееву, что выбрать, наклоняюсь к самому его уху и невнятно бормочу «Не пей много». Кажется, он слышит.
Салат я не заказываю, я не люблю закуски, и, дожидаясь свою паровую осетрину, быстро, без тоста, выпиваю большую рюмку водки, ее я попросил принести сразу, еще не развернув салфетки. Официант, изобразив лицом всяческое понимание, подал мгновенно. Рустэм делает вид, что ничего не заметил, остальные то ли действительно не заметили, то ли тоже притворились, только Игорь закопошился, собираясь ляпнуть что-нибудь игривое, выпивка всегда вызывала у него прилив остроумия, но я тычу его в бок, чтобы молчал. По дороге в ресторан в машине опять начало дергаться и замирать сердце, теперь я надеюсь, что аритмию удастся придавить водкой.
За едой говорим о чепухе. Первый тост, конечно, произносит Рустэм — за нас всех, за компанию. «За компанию в целом и за нашу дружную компанию», — обнаруживая прекрасное чувство неродного русского, он поводит рукой с фужером, как бы обнимая сидящих за столом. Пьет он только шампанское, заказали сразу две бутылки «Дом Периньон», официант подвинул к столу ведерко на высокой ножке, вид у него стал еще более торжественный. Верочка, как и я, пьет водку, остальные, включая Игоря, налегают на шампанское, потом переходят на вина, Толя Петров попросил «Перье» и при тостах поднимает большой фужер с водой, внимательно глядя в лицо говорящему.