Мистер Кантор бросился в подвальный коридор, оттуда в уборную, которой пользовались мальчики со спортплощадки, и, весь во власти горя, не зная, как иначе его избыть, схватил швабру уборщика и галлоновую канистру с дезинфектантом, налил ведро воды и, обильно потея, вымыл весь кафельный пол. Потом перешел в уборную для девочек и яростно, исступленно обработал ее тоже. После этого, распространяя вокруг себя запах дезинфекции, сел в автобус и поехал домой.
На следующее утро, побрившись, приняв душ и позавтракав, он почистил свои выходные ботинки, надел костюм с белой рубашкой и более темным из двух имевшихся у него галстуков и поехал на автобусе на Шлей-стрит. Синагогой служило невысокое унылое здание-коробка из желтого кирпича через улицу от пустого участка, где местные жители разбили свои "грядки победы" — вероятно, те самые, на которых заботливо выращивал свои овощи Алан. Мистер Кантор увидел там нескольких женщин в широкополых соломенных шляпках, надетых для защиты от утреннего солнца; согнувшись, женщины пропалывали маленькие грядки около рекламного щита. Перед синагогой стояла вереница машин и среди них черный катафалк, водитель которого, выйдя на тротуар, протирал тряпкой переднее крыло. Внутри катафалка мистер Кантор увидел гроб. Невозможно было поверить, что летней инфекции оказалось достаточно, чтобы уложить Алана в этот простой ящик из светлой древесины. В этот ящик, из которого не выберешься. В ящик, где двенадцатилетнему суждено вечно пребывать двенадцатилетним. Другие будут жить, взрослеть, стареть, а ему так и останется двенадцать. Миллионы лет пройдут — а ему все равно будет двенадцать.
Мистер Кантор, достав из кармана брюк ермолку, надел ее и вошел в синагогу, где увидел в задних рядах пустое сиденье. Сев, он стал следить за молитвами по книге и, когда нужно, присоединялся к общим возглашениям. Посреди службы вдруг послышался женский крик: "Она упала в обморок! Помогите!" Рабби Славин ненадолго прервал молитву, и один из мужчин — видимо, врач — ринулся на помощь вверх по лестнице на балкон, в женскую часть синагоги. Внизу уже было, наверно, тридцать с лишним градусов, а на балконе разумеется, и того жарче. Неудивительно, что кому-то стало плохо. Если служба скоро не кончится, люди начнут падать в обморок один за другим. Даже мистер Кантор — в своем единственном костюме, шерстяном, зимнем — почувствовал легкое головокружение.
Сиденье около него пустовало. У него возникло и не проходило желание, чтобы, войдя, туда сел Алан. Он хотел, чтобы Алан вошел со своей бейсбольной рукавицей и расположился рядом, как это часто бывало в полдень, когда мистер Кантор объявлял перерыв на ланч и Алан, усевшись подле него на скамейку для зрителей, доставал из пакета сэндвич.
Надгробное слово произнес Изадор Майклз, дядя Алана, — его аптеку на углу Уэйнрайт-стрит и Чанселлор-авеню все хорошо знали, а самого уважительно называли "Док". Это был человек жизнерадостного вида, дородный и смуглый, как отец Алана, и с такими же темными зернистыми пятнами под глазами. Говорил только он, потому что больше никто из родных не находил в себе сил сдержать должным образом чувства во время выступления. Многие плакали, и не только в женской части синагоги.
— Господь благословил нас, дав нам Алана Аврама Майклза на двенадцать лет, — начал его дядя Изадор с мужественной улыбкой. — Меня Он одарил племянником, которого я любил как собственного сына со дня его рождения. Каждый день после школы по пути домой Алан заходил в мою аптеку, садился у прилавка и заказывал молочно-шоколадный коктейль с солодом. Когда он только поступил в школу, он был самым худым мальчиком на свете, и всегда хотелось его подкрепить. Если я не был занят, я подходил к стойке с напитками и сам делал ему коктейль, причем клал побольше солода для питательности. Этот обычай у нас держался не один год. Как я радовался этим встречам с моим необыкновенным племянником после школы!
Ему понадобилась пауза, чтобы взять себя в руки.
— Алан, — продолжил он, — был знатоком тропических рыбок. Он как эксперт рассуждал обо всем, что касается ухода за любыми аквариумными рыбками. Не было ничего более увлекательного, чем прийти к ним в гости, сесть вместе с Аланом у его аквариума и слушать его рассказы про каждую рыбку в отдельности, про то, как у них рождаются мальки, и так далее. Можно было целый час с ним просидеть, и ему все равно не хватило бы времени, чтобы рассказать обо всем, что он знает. После беседы с Аланом у любого взрослого всегда была улыбка на лице и приподнятое настроение, да к тому же еще и знаний прибавлялось. Как он этого достигал? Как этот мальчуган ухитрялся быть для нас, взрослых, тем, чем он был? Каким особым секретом он владел? Его секрет заключался в том, чтобы каждый день проживать сполна, чтобы всему удивляться, всему радоваться, во всем видеть чудо, будь то коктейль после школы, или тропические рыбки, или спорт, в котором он преуспевал, или его вклад на "грядках победы" в борьбу страны, или школьные занятия. В короткие двенадцать лет Алан уместил больше здоровой игры, больше веселья, чем у обычного человека набирается за долгую жизнь. И он больше радости подарил другим, чем обычный человек дарит за долгую жизнь. Жизнь Алана оборвалась…
Тут ему опять пришлось остановиться, и, когда он снова заговорил, голос был хриплым, он едва сдерживал слезы.
— Жизнь Алана оборвалась, — повторил он, — и все же мы в нашем горе не должны забывать, что, пока он был жив, эта жизнь была бесконечной. Каждый день был для Алана бесконечным благодаря его любознательности. Каждый день был для Алана бесконечным благодаря его сердечности. Он всю жизнь был счастливым мальчиком и во все, что делал, вкладывал всего себя. В этом мире бывают судьбы куда более горькие, чем судьба Алана.
Выйдя из синагоги, мистер Кантор задержался у дверей, чтобы еще раз выразить соболезнование родным Алана и поблагодарить его дядю за сказанное. Кто бы мог, придя в аптеку и глядя на выдающего таблетки по рецепту дока Майклза в белом халате, вообразить, каким оратором он способен быть? Кто бы мог подумать, что многие из собравшихся, как женщины наверху, так и мужчины внизу, будут, не скрываясь, плакать от его слов? Мистер Кантор увидел, как из здания, держась вместе, выходят четыре мальчика со спортплощадки: Спектор, Собелсон, Табак и Финкелстайн. Все были в костюмах не по размеру, в белых рубашках с галстуками и в жестких ботинках, и пот заливал их лица. Вполне возможно, что тяжелейшим испытанием дня была для них не первая встреча со смертью, а необходимость задыхаться в такую жару в крахмальном воротничке и галстуке. Как бы то ни было, они пришли в синагогу, несмотря на погоду, в костюмах, и мистер Кантор, подойдя к ним, по очереди взял каждого за плечо и мягко, ободряюще похлопал по спине.
— Алан был бы рад, что вы здесь, — сказал он им тихо. — Молодцы, что так поступили.
Потом кто-то уже его тронул за спину.
— С кем вы едете?
— Простите?..
— Вон там, видите? — Человек показал на машину, стоявшую чуть поодаль от катафалка. — Поезжайте с Беккерманами.
Он легонько подтолкнул мистера Кантора к припаркованному у тротуара "плимуту".
Мистер Кантор вообще-то не думал ехать на кладбище. После службы в синагоге он собирался вернуться домой помочь бабушке с хозяйственными делами, намеченными на воскресенье. И все же он сел на заднее сиденье машины, ждавшей его с открытой дверью, около женщины в шляпке с черной вуалью и платком в руке, которым она обмахивала лицо с потеками пота пополам с пудрой. На водительском месте был мужчина в черном костюме, коренастый, маленького роста и со сломанным, как у деда мистера Кантора, носом (причина, вероятно, та же: антисемиты). Рядом сидела темноволосая невзрачная девушка лет пятнадцати-шестнадцати, которую ему представили как Мерил, двоюродную сестру Алана. Старшие Беккерманы были тетей и дядей Алана по материнской линии. Мистер Кантор представился как один из учителей Алана.
Минут десять, пока за катафалком выстраивался похоронный кортеж, им пришлось просидеть в раскаленной машине без движения. Мистер Кантор пытался вернуться мысленно к словам Изадора Майклза, что жизнь Алана, пока она длилась, была для мальчика бесконечной, но это не получалось: раз за разом ему вдруг невольно представлялся Алан, который жарится в своем ящике, точно кусок мяса.
Доехав по Шлеи-стрит до Чанселлор-авеню, они повернули налево и медленно двинулись по авеню в гору — мимо аптеки, принадлежавшей дяде Алана, к двум школам, начальной и старшей, расположенным на самом верху Другого транспорта почти не было: большинство магазинов не работало, исключение составляли лавка Табачника, торговавшая воскресным утром копченой рыбой, кондитерские магазинчики, где продавались воскресные газеты, и булочная, предлагавшая кофейные кексы и бублики для воскресного завтрака. За свои двенадцать лет Алан побывал на этих тротуарах тысячи раз: ходил в школу и обратно, бегал на спортплощадку, покупал что-нибудь по маминому поручению, встречался с друзьями в "Хеилемз", поднимался по авеню на холм, а затем спускался, чтобы попасть в Уикуэиик-парк с прудом, где можно было ловить рыбу и кататься летом на лодке, а зимой на коньках. Теперь он во главе похоронного кортежа и внутри этого ящика отправился по Чанселлор-авеню в последний путь. Если, подумалось мистеру Кантору, тут в машине как в печи, то каково ему там, в ящике.
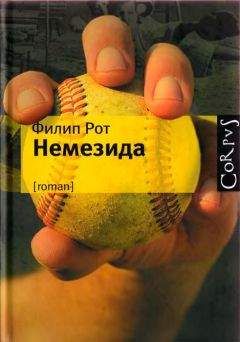



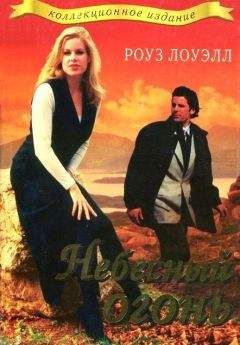
![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)