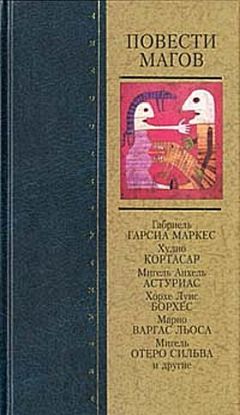Ознакомительная версия.
Профессор Трубецкой поссорился с профессором Янкелевичем, но графиня, любящая Айтматова, тоже поссорилась с профессором Янкелевичем еще два года назад (хотя с профессором Трубецким она поссорилась раньше), и кафедра оказалась под угрозой.
Профессор Янкелевич, чье детство и отрочество прошли в Японии, гордый тем, что последние тридцать четыре года он смотрел свои сны исключительно по-японски, а думал при этом по-русски, наглухо закрыл дверь кабинета, сел за стол, загородился портретом жены (в большой белой шляпе, с букетом ромашек!), затих и надулся.
Трубецкой, закусив нижнюю губу, ходил по коридору второго этажа и так громко наступал на пятки, что у графини на первом этаже начался нервный тик.
В это же время обнаружилось и другое обстоятельство: на кафедру поступило письмо, хотя и по-русски, но гадкое, полное диких намеков. Поскольку заведующая кафедрой, маленькая, застенчивая женщина, влюбленная в Рыльские Глаголические Листки, не знала, что делать с таким документом, она позвала Трубецкого, над чьей головой и сгустились все тучи.
— Here. You just take a look.[2]
— What is it, Patrice?[3]
Заведующая испуганно отвернулась к окну, и Трубецкой, шумно, с достоинством высморкавшись, принялся за чтение:
«… бессовестно проедая деньги, доверенные ему университетским начальством и доверчивым американским правительством, хапая направо и налево так называемые гранты на совершенно не нужные американской науке псевдопроекты, профессор Адриан Александрович Трубецкой бессовестно крутится в России, вступает в отношения с нечистоплотными замаравшимися людьми, пользуется их средствами для своего проживания и тем же содержит вторую семью, состоящую из незаконной жены и ребенка. Причем эта жена, целиком и полностью висящая на шее Трубецкого, может позволить себе нигде не работать в России и в частности в Санкт-Петербурге.
Но этого недостаточно. Два года прожив в Провиденсе и проработав за гроши на кафедре славистики, я воочию убедилась, в каких отношениях профессор Трубецкой состоит с зависящими от него в их научной и литературной работе малоимущими американскими аспирантами. Особенно женского пола. Пользуясь своим влиянием, профессор Трубецкой заставляет аспирантов дни и ночи проводить в библиотеках, разыскивая нужные ему материалы.
А что касается женщин-аспиранток, то могу привести примеры того, как ведет себя профессор Трубецкой на работе. Дверь своего кабинета, за которой он неизвестно чем занимается и которую по регламенту, установленному в Соединенных Штатах Америки, нужно держать широко открытой, он запирает частенько на ключ изнутри…»
Дальше Трубецкой читать не стал и подлый документ смял с такой яростью, что заведующая всплеснула своими нежными руками:
— They all got the copies![4]
Оказалось, что вся кафедра, включая секретаршу, получила копии.
— Так, — громко и смачно сказал Трубецкой. — И что же мне делать?
— You have to finish reading,[5] — слабея, попросила заведующая.
Остаток письма был совсем омерзительным. Если верить «фактической достоверности» изложенного, профессор Адриан Александрович не только пристает к студенткам за закрытой дверью своего кабинета, но и склоняет многих из них к незаконному сожительству, обещая помощь в будущем устройстве на работу, а этим, как известно, легко расположить к себе всякого человека, получившего не самое популярное в Соединенных Штатах Америки образование в области славистики.
— А! — проревел Трубецкой, возвращая письмо. — Она отомстила. Я знал это. Господи! Мы не продлили контракт. Все понятно.
Дело обстояло так: кафедра славистики, на которой профессор Трубецкой трудился вместе со своими коллегами, имела возможность приглашать из Москвы и Петербурга преподавателей русского языка, селить их в своем общежитии, платить очень скромные деньги с тем, чтобы они создавали внутри университета глубоко народную славянскую атмосферу. Включались: блины, кинофильмы «Вокзал для двоих» и «Летят журавли», сибирская баня, гадание при свечах плюс песни, плюс пляски.
Контракты заключались на год, и по истечении срока носители чисто славянского духа с неохотой покидали чужую, но мирную, тихую пристань для бурного моря далекой отчизны.
Такого, как это письмо, между тем никогда не случалось.
— Я не могу не отреагировать, — покрывшись бурыми пятнами, прошептала заведующая. — Тогда она оклевещет всю кафедру, нам сразу закроют программу.
— Логично, — сказал Трубецкой и звонко, как груда камней, рухнул в кресло. — Но мне-то что делать? А Петра? Прасковья с Сашоной?
— Нам нужно ответить, — еще тише сказала заведующая. — Иначе вся ваша карьера…
— Карьера? — презрительно переспросил Трубецкой. — Какая такая карьера?
Патрис наклонила кудрявую голову.
— Ну, что ж? Нищета, срам и старость! — И Трубецкой с размаху закрыл лицо мясистыми ладонями. — Страна дураков и совсем безнадежна. Ирак! Безобразие! Там, — он резко махнул на окно, в котором, чернея, притихли вороны, — там тоже хватает. Там Путин и кровь. Миллиарды. Старик Карамазов и все его дети. Ах, господи боже, да что говорить!
— Но надо ответить…
— Все катится градом! Везде. Так и надо. Рожают детей из пробирок, и что они думают? А? Вы скажите?
— Я хотела вас попросить, Адриан. Если это дойдет до начальства…
— Что — это? — опять заревел Трубецкой.
— Никто не будет копаться в вашей личной жизни, — торопливо забормотала она. — Но если хоть одна из ваших аспиранток на вопрос, пытались ли вы…
— Пытался я — что? И кому я пытался?
— Пытались ли вы добиться ее… расположения… когда… при закрытых дверях кабинета… Ведь я вам сто раз говорила: «Откройте!» Регламент!
— А я не открою! — побагровел Трубецкой и всей тяжестью привстал на огромных ногах, но сдался и рухнул обратно. — Поскольку желаю мечтать! В кабинете! В своем кабинете! Желаю мечтать и раздумывать! Я им не робот!
Дело пахло большими неприятностями. То, что любое обвинение в сексуальном домогательстве по отношению к подчиненным не оставляется без внимания и может закончиться увольнением, знали все, и все боялись этого. К тому же профессор Янкелевич, лично ненавидящий Трубецкого за его популярность, не погнушался бы и клеветой на своего врага, будучи, однако, чистосердечно уверенным, что, потопив Трубецкого, он служит высоким и нравственным целям.
— Мы сделаем все очень просто, — прошелестела заведующая. — Я поговорю, приватно, разумееется, со всеми нашими аспирантками, и каждая подпишет опровержение. Так что, если дойдет до самого верха, мы будем уже подстрахованы…
— Ах, делайте что хотите!
И, схватившись за виски, Трубецкой вскочил и, отпихнув кресло, вышел из комнаты.
…
Любовь фрау Клейст
Остров Бальтрум рано просыпался и рано засыпал. Он был, как положено раю, спокоен, и солнце так горячо и тщательно прогревало каждую песчинку, что утром, уставшие от любви, ослабевшие от этой огромной, смеющейся силы, которая с ними творила что хочет, они шли на берег, пустынный, залитый как будто густым молоком, разувались и по кромке лопающейся воды, взявшись за руки, уходили далеко.
Камни звякали под ногами, песок мелодично похрустывал. Тонкие скелеты больших длинных рыб и скелетики малых, раздавленные панцири умерших морских существ, сизые куски раковин, разваренные водоросли, суетливые крабы, тонконогие чайки — все, и живое и мертвое, покорно сияло под солнцем, не думая вовсе о смерти и жизни. Все было похожим одно на другое: и чайка на чайку, и панцирь на панцирь, но не было ни одной одинаковой птицы и ни одного — такого же точно, как тот или этот, — прогретого камня.
Разговаривали они немного. Любой разговор, даже самый ничтожный, привел бы их сразу к тому, чем вдруг стала их жизнь. Их жизнь стала тайной. И если бы кто-нибудь из посторонних людей вдруг догадался о ней, они бы погибли.
Когда по ночам фрау Клейст смотрела на белеющее в темноте лицо своего возлюбленного, ей приходило в голову, что она никогда и никого не любила так сильно, с такой беззастенчивой, радостной жадностью. Едва только он засыпал и все детское, пушистое и робкое проступало на этом лице, ей тут же хотелось обнять его, спрятать, закрыть своим телом, и если придут убивать их обоих, то сначала пускай расправляются с нею.
На исходе счастливой недели фрау Клейст почувствовала себя плохо. Когда они с райского острова плыли обратно на пароме, она простояла почти целый час, свесившись за борт, извергая из себя пенистую желтую жидкость и корчась от того, что в горле ее как будто раздавливают лимоны.
Доктор Штайн, зрачки у которого мутнели всякий раз, когда он тощими руками в резиновых перчатках безжалостно выворачивал подернутые перламутром внутренности своих пациенток, тотчас объяснил ей, в чем дело.
Ознакомительная версия.