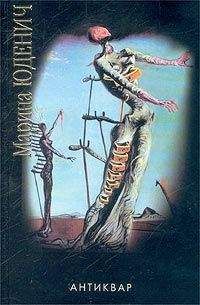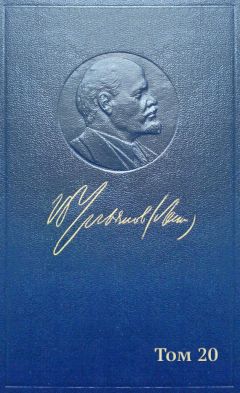Да что там из колеи!
Казалось, он еще не до конца осознал, что произошло, или, напротив, осознал все слишком болезненно и остро. И потому смотрит странно.
На вопросы отвечает сбивчиво, невпопад. В маленьком, тесном пространстве передвигается неловко, будто пьяный или слепой — с размаху налетает на предметы, после долго восстанавливает равновесие, с трудом удерживаясь на ногах.
Последнее, впрочем, объяснимо и простительно — торговый зал небольшого, но прежде довольного уютного, с некоторым даже шармом антикварного магазина напоминал сейчас поле боя. Вернее — крепостное помещение после сокрушительного штурма и набега жестоких варваров, коим падшая цитадель отдана была на потеху и разграбление.
Теперь, впрочем, ушли и они, набив утробы и насытив души пьянящим чувством вседозволенности. Утомились в кровавых, не праведных делах.
Дело было сделано.
К тому же даже варварский взгляд, очевидно, угнетала картина ужасающего погрома.
Так безжалостно, изуверски разнесено все было внутри.
Обращено в прах.
— Черт меня побери, если это ограбление…
— И не разбой.
— А что?
Арбатские сыщики ко всякому привычны.
Но и они — удивляясь искренне — сокрушенно крутили головами.
Непомнящему, впрочем, сочувствовали, вопреки обычной досаде, замешенной на изрядной доле профессионального цинизма и социальной неприязни: невелика трагедия — очередного Буратинку растрясли на золотые пиастры.
Игорь Всеволодович, как ни крути, классическим Буратинкой не был Из щекотливых полу — и околокриминальных ситуаций выходил достойно, с окрестными стариками обходился по-божески, краденого не скупал, фальшивой стариной не торговал. По крайней мере не попадался.
Et cetera — в том же благопристойном духе.
Подарки — когда возникала у здешних стражей порядка нужда преподнести кому-то презент особого рода — подбирал приличные и со вкусом. Притом не ловчил, норовя подсунуть искусно сработанный новодел. Хотя понятно было — клиент профан, и тот, кому подарок предназначен, вероятнее всего — тоже.
Сыщики это ценили.
— Игорь Всеволодович!.. — Начальник уголовного розыска говорил вкрадчиво, как обращаются к душевнобольным, истеричным женщинам, старикам и детям.
Ласково, чтобы не испугать, и настойчиво, дабы получить ответ, по возможности точный и краткий. — Сейчас, конечно, сложно. И все же чем быстрей мы получим перечень похищенного, тем больше шансов. Вы понимаете? Нужен список, очень подробный и, разумеется, полный.
— Что похищено? — Игорь впервые взглянул сыщику в глаза и будто только сейчас заметил. — Да все…
Разве вы не видите, не осталось ничего…
— Вижу. Но эти… хм… предметы, так сказать, на месте. Изуродованы, конечно. Восстановлению, понятно, не подлежат. Ущерб очевиден и все такое. Но черепки — я извиняюсь, конечно, — моим ребятам не помогут, в том смысле — никуда не приведут. Может, ублюдки что-то все же с собой прихватили? Самое ценное? Знаете ведь, как бывает — из-за одной только вещицы идут. А прочее — так, безобразие одно, антураж…
— Антураж! — Непомнящий отозвался неожиданно отчетливо и громко. К тому же уверенно, словно и сам думал о том же. Вышло, однако, с надрывом. Крикливо, агрессивно, на грани истерики.
Сыщики обескураженно притихли.
Главный смотрел выжидающе, но продолжения не последовало.
— Антураж!.. — еще раз отчетливо повторил Игорь Всеволодович и, повернувшись, той же пьяной, неуверенной походкой двинулся прочь.
Его не удерживали.
Понятно — не в себе человек.
Еще бы! Такие деньги в одночасье обращены в прах.
Одно слово — черепки.
Лучше не скажешь.
Санкт-Петербург, год 1835-й
Улица была хмурой и грязной.
Но — людной.
Промышленный народ, одетый как попало — нечисто, небрежно, а то и просто в лохмотья, — уныло брел по домам.
Еще распахнуты были двери лабазов.
Гремели телеги, протискиваясь в ворота постоялых домов. Бранясь беззлобно, горланили кучера.
Бродяги стекались к трактирам, топтались, выжидая, когда соберется пьющая публика.
Тогда знай — не зевай. Лови удачу.
Свезет — к полуночи будешь сыт, пьян и нос в табаке.
Нет — ни за что схлопочешь по шее.
Или того хуже.
Молодые мещанки в аккуратных платочках, старики и старухи в тяжелых одеждах глядели осуждающе — спешили к вечерне. Узкий проулок вытекал из угрюмой улицы, тянулся к храму — маленькой приходской церкви.
Такой же неопрятной и хмурой на вид, как все здесь — в отдаленном, глухом углу Петербурга.
В воздухе разлиты скука и уныние.
Хмурый день заглянул сюда без малейшего желания, вымученно отбыл положенное и с брезгливой миной убрался восвояси, желая лишь одного — побыстрее забыть увиденное. Торопливые сумерки выцветшим покрывалом свесились с угрюмых небес. И где-то рядом, за поворотом, смешавшись с толпой мастеровых, уныло брел, приближаясь, тоскливый вечер.
Все — как всегда.
До оскомины привычно и заранее известно на сто лет вперед.
Однако ж не все.
Легкая пролетка, запряженная двумя рысаками, вынырнула из-за поворота, быстро — и разбитая мостовая ей не помеха! — покатилась по улице.
Соляными столбами застыли прохожие.
А коляска, будто специально, на потеху, замедлила ход.
Кучер, сдерживая лошадей, завертел головой, высматривая что-то. Искал, однако, недолго.
Карета встала у капитального, в четыре этажа, дома с одним подъездом и сквозными воротами, пройдя которые можно оказаться на другой улице. Стены дома были черны.
Окон много, но все небольшие и занавешены кое-как, оттого казался дом убогим, сиротским, покрытым вроде бы множеством заплаток.
Подъезд был темен, входная дверь — даром что звалась парадной — чудом держалась на одной петле.
Пассажир пролетки, однако, ничуть не смутился.
Легко — хоть на вид был в летах — спрыгнул на шаткую мостовую, маленькой рукой в белой перчатке аккуратно придержал дверь и скрылся из виду.
Прохожие повертели головами, но ждать не стали — сумерки сгустились окончательно, наступила непроглядная темень.
Фонарей на столичных задворках не жгли.
А моложавый барин — граф Федор Петрович Толстой — тем временем ощупью поднимался по узкой зловонной лестнице.
Шел, однако, быстро.
Коренастый лакей едва поспевал за господином, норовил все же бережно поддержать под локоток.
— Оставь, братец. Скажи лучше, туда ли идем? Как-то уж очень здесь…
— Не сомневайтесь, ваше сиятельство, адрес точный. Здесь и проживают. И ждут-с. Предупреждены. Только смущаются очень. Да вот уж пришли. Сюда пожалуйте… Правду сказать, одно название, что квартира. Всего-то комната перегорожена натрое.
Прямо из сеней вступили в маленькую темную прихожую.
Там — едва различимы во мраке — жались друг к другу три одинаковые двери.
— Две комнаты хозяйские, эту — сдают.
Указанная дверь немедленно отворилась, узкая полоска мягкого света легла на лица гостей.
— Милости прошу, — слабый женский голос прошелестел чуть слышно.
Они вошли.
И сразу же в узенькой комнатушке с двумя низкими окнами стало тесно.
Все здесь было загружено и заставлено разыми необходимыми предметами, однако очень опрятно.
Мебели мало — просто белый стол и два стула, за ситцевой занавеской угадывалась кровать.
— Не угодно присесть?
Хозяйка так и не подняла глаз.
Вдобавок склонилась низко, смахивая пылинки с предложенного стула.
Не было, однако, там никаких пылинок.
— Спасибо. И ты садись… Лукерья. Тебя ведь Лушей зовут?
— Лушей…
Решилась наконец.
Торопливо, украдкой взглянула на гостя.
И — лучше б не глядела! — испугалась пуще прежнего.
Он немолод, сед, сухопар и, по всему, суров.
Глаза из-под густых бровей смотрят внимательно, в упор. Правда, не зло. И даже не сердито.
А все равно страшно.
Большой барин, граф, профессор, богач — Ванечкин благодетель.
Только напрасно все.
Вот ведь как обернулось.
— Расскажи мне, Луша, про Ивана Крапивина. Я ведь его в Италию учиться отправил и пенсию от академии хлопотал. Знаешь ли?
— Как не знать? С первого дня, как познакомились с Ваней, и до последней минуточки Бога за вас молил.
Кабы не вы…
— Кабы не я? — Федор Петрович горько усмехнулся — Что об том говорить? Чаял спасти Ивана, отсылая из России, а вышло… Ты-то, ты, милая, как в Италии оказалась?
— Муж мой крепостным был графа Петра Игнатьевича Шереметева. В юности талант к рисованию проявил. Сначала думали — забава одна. Маленького графа тешил: белочек да собачек рисовал. Ну и вышло так — увидала рисунки графиня, показала барину. На ту пору жил в усадьбе немец-художник, парадный портрет с их сиятельств писал. Позвал его граф, показал картинки — немец зашелся: талант, говорит, учить надо непременно. А граф наш человек был широкий, щедрый, слов пустых не любил. «Ежели надо, — говорит, — учи».