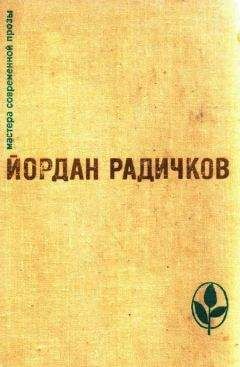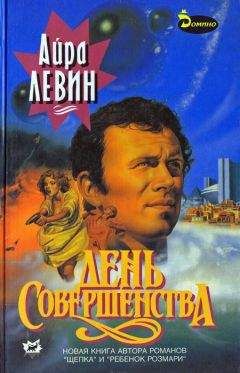«Да, конечно, усталость, недосыпание, — думал Иван Мравов, вертя педали велосипеда и мысленно вглядываясь в лицо сержанта Антонова. — Но все твои арестанты — в служебном отделении вагона, дверь на запоре, и твое дело — доставить их с кирпичного завода в каменный карьер, все они у тебя на глазах и под рукой, а тут вся округа — все подчиненные общинному совету в Разбойне деревни и выселки раскинулись доверчиво и привольно под открытым небом, доступные любому надругательству, уголовному или политическому. Попробуй все это охранять!»
Он проехал на велосипеде через Чертов лог, поглядел на грядку с луком — там, где лук был собран, пробилась травка. Пустынным, мертвым выглядел сейчас Чертов лог, тропка, что вела к родничку, тоже спряталась в траве, давно уже ни один путник не сворачивал попить ключевой воды, отдохнуть в тени под липами или под старыми кленами. Заброшенным, зловещим и даже таинственным казалось сейчас это место. Еще более зловещим и таинственным показалось оно Ивану, когда на выезде из лога, у самой дороги, в покрытой росой траве он увидел двух женщин — наполовину скрытые высокой травой, они сидели и закусывали. Одна — немолодая, злая, усатая, хмуро смотрела на сержанта и жевала, при этом у нее вздувалась только одна щека. Вторая — молодая, с глуповатой физиономией, не то размечталась о чем-то, не то просто так улыбалась глупой улыбкой. На молодой было наверчено столько всякой одежи, что она напоминала копну сена среди травы. Заметив милиционера на велосипеде, обе женщины зашевелились, но встала только пожилая, хмурая, вторая осталась сидеть, рассеянно глядя на милицейскую форму. Она жевала, раздувая обе щеки. Когда женщины остались позади, Иван с облегчением вздохнул, потому что они тоже показались ему чуть ли не такими же зловещими и таинственными, как и Чертов лог. Добравшись до вершины холма, он легко покатил вниз по склону.
Внезапно раздался выстрел. Сержант вздрогнул, громко взвизгнули велосипедные тормоза, в первую секунду Ивану почудилось, что стреляют из засады в него самого, быть может даже те женщины, которых он видел в Чертовом логу.
Эхо унесло звук выстрела на другой берег и обронило на Кобылью засеку. Иван определил, что стреляли со стороны села, причем из боевого карабина. Он нажал на педали, цепь оглушительно скрежетала, Иван ехал чуть ли не стоя, еле касаясь седла. Ветер свистел в ушах, и он напряженно вслушивался, не прозвучит ли второй выстрел. По обе стороны от него медленно кружилась равнина, утонувшая в густой росе, ветвистые грушевые деревья, холмы, полосы высокой кукурузы, стылые, сонные проселки, а впереди сверкал под лучами солнца церковный купол.
В то же самое утро, когда Иван Мравов беседовал на железнодорожной станции с сержантом Антоновым, двое патрульных противоящурного кордона, поставленного у въезда в село Разбойна, были разбужены скрипом телеги, запряженной парой буйволов. Патрульные спали под тенистой грушей, возле потухшего костра. Ночи были сырые, и патрульные жгли костер, дымом отгоняя комаров. Почти каждый вечер сюда сходились мужики, сидели с мотыгами у огня, ожидая, когда подойдет их черед поливать огород или люцерну. Они пекли на углях кукурузу, картошку, рассказывали всякие небылицы из своей жизни, огонь мало-помалу бледнел, люди заворачивались кто в бурку, кто в старый, выношенный полушубок и засыпали под стрекот кузнечиков, кваканье лягушек в реке, протекавшей неподалеку, за стеной кукурузы, и мерное уханье филина. Время от времени кто-нибудь вставал, зажигал керосиновый фонарь и с мотыгой на плече шлепал босиком по холодной росе к своему огороду — глянуть, не подошла ли очередь поливать грядки. Остальные спали, пока их не будила какая-нибудь подвода, подъехавшая ни свет ни заря, либо же болтовня сорок. Сорок было две, они ночевали на ветках груши и спозаранку принимались болтать и ссориться.
В это утро сорок опередила телега, запряженная буйволами. Она была из соседнего села, мужик вез сына в город, в военкомат, на комиссию — комиссовать, как он выразился; сын у него был недоразвитый по причине детского паралича, он сидел на подводе, ухватившись обеими руками за боковины, и смотрел перед собой ничего не выражающим взглядом. Крупные капли пота проступили на его бледном лбу. Заметив сорок, которые суетились на дереве, паренек оживился, в горле у него забулькало, раздался возглас, в котором прозвучало нечто вроде радости, несколько резких вскриков и долгий, взволнованный стон. Отец смущенно усмехнулся, шагнул к пареньку, что-то сказал ему насчет птенцов, одобрительно при этом кивая. Он закурил, предложил по сигарете патрульным и среди разговора о погоде и урожае, расспросов о том, что новенького на белом свете, рассказал о сыне, который так и остался при младенческом разуме, — он малышом, когда еще ходить не начал, все плакал, возили его к знахарям и докторам, а когда начал ходить, выяснилось, что он перенес детский паралич и паралич этот день ото дня все больше его сковывает. Так-то он вроде все понимает, но понимает, как ребенок, очень любит всякую птицу, и, когда дома вылупятся цыплята или утята, он их из рук не выпускает, тискает, жмет, и от этого тисканья половину душит насмерть, не понимает потому что. А теперь вот вызвали на комиссию и приходится везти парня в город, чтоб комиссия его освидетельствовала. Патрульные успокоили мужика, что комиссия, конечно же, парня освидетельствует, и сообщили, что по причине ящура придется им ехать вкруговую, через Кобылью засеку. «Эта дорога мне известна, — сказал мужик, — но сперва я распрягу буйволов, напою, а там уж двинемся дальше».
Он выпряг буйволов и повел к чешме. Из обеих железных труб в позеленевшее каменное корыто струилась вода. Буйволы ступали вслед за хозяином тяжело, степенно, почти торжественно, не слишком торопливо и не слишком медлительно, так же как и вода журчала, не слишком торопливо, но и не слишком медлительно, разлетаясь сверкающими брызгами. Эта чешма журчала тут с незапамятных времен, посреди садов и огородов, полей подсолнуха, конопляников, созревающих хлебов, скошенных лугов и зарослей дикого шиповника, позади нее высился пологий холм, увенчанный тремя вязами, топографической вышкой и потонувшим в траве молельным камнем. По одну сторону холма виднелись синие ульи, а с восточной стороны, у самого подножия, земля была разрыта, и оттуда выглядывали древние каменные стены. Местный учитель занимался раскопками римских развалин, но работа продвигалась медленно, не хватало рабочих рук. Вся эта местность вместе с холмом и чешмой носила название Илинец. Учитель говорил, что у этой чешмы поили своих коней еще римляне, потом праболгары, потом черкесы, турки-османы, то есть все народы, что проходили тут, оседали и оставляли свои кости в здешней земле. Хозяин буйволов, вряд ли подозревая о том, что тут поили своих коней древние римляне, отпустил буйволов, цепи звякнули о каменное корыто, животные сунули свои бородатые морды в журчащую воду, а их хозяин, стянув с головы шапку, долго умывался под бьющей из крана струей. Он был с виду не старый, но, когда он снял шапку, патрульные обратили внимание на то, что он облысел не по годам. Умыв лицо, он плеснул водой на лысину.
Одни из патрульных встал на колени, заострил большим ножом несколько ивовых прутьев и начал плести корзину. Это был плотный, коренастый человек, лицо у него было в веснушках, волосы, брови, ресницы — рыжие, и даже глаза с рыжеватым оттенком — таким же, как у штанов из домотканой шерстяной материи. Он сдвинул фуражку на затылок, две продольные морщины пролегли по его лбу как бы с удивлением, словно они были взяты напрокат с другого лица. Широкий раздвоенный подбородок, складки у рта и эти две морщины на лбу выдавали рвущуюся наружу энергию, напряжение, нервность, они пытались раздвинуть, укрупнить небольшую его физиономию, но, поскольку это не удавалось, они удовольствовались тем, что провели несколько черт на неподатливых мышцах этого мужицкого лица, ресницы сделали прищуренными и быстрыми, в уголках глаз проложили скептические морщинки. В свое время этот человек был пастухом, бродил по лесам со стадом коз, и эти скитания выработали у него привычку остерегаться неожиданных ударов.
Стоя на коленях возле своей корзины, переплетая тонкие ивовые прутья, он то и дело откидывал голову назад, опасаясь, как бы прут не хлестнул его по лицу. Чтобы прутья ложились плотнее, он время от времени надавливал на них рукоятью своего большого ножа. Ивовые прутья ложились один за другим, изгибались, переплетались через равные промежутки, короткие неуклюжие пальцы двигались экономно, и все его движения тоже были экономные, он двигался на коленях вокруг корзины, словно колдуя над ней или читая какие-то заклинания. Парализованный паренек на подводе, склонив голову, пристально следил за его движениями. Буйволы напились воды, хозяин гнал их назад, к телеге, но они не торопились уходить, опускали морды в корыто и закидывали их кверху, как бы пережевывали и процеживали воду, позвякивая цепями. Потом все же повернули назад, на ходу пощипывая мокрую от росы траву.