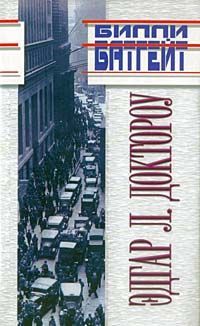В конце концов им стало ясно, что ничего другого не остается, как честно объявить о своей связи, во всем признаться собственным супругам, оставить на их попечение детей и уехать из города. Он откажется от должности, и они вместе начнут новую жизнь где-нибудь в другой части страны. А если ему удастся выбить аванс у издателя, они смогли бы пожить и за границей. Для их любви не было ничего невозможного.
И вот по окончании семестра настал назначенный день. Он опустил в почтовый ящик заявление об уходе, усадил бедняжку жену в гостиной и выложил ей все, кроме имени своей возлюбленной. Она была ошеломлена, потрясена, уничтожена — ей в голову такое не приходило. Она была у меня простая душа, славная, милая женщина, рассказывал он, недурна собой, этакое хрупкое, слабое создание, а в общем-то верная, любящая жена, если не считать того, что прежде, чем он успел удалиться, она совсем свихнулась и запустила ему в голову, когда он удирал, тяжелый горшок с хризантемами, который, как он полагал, ей было не под силу поднять, не то что метнуть.
В несколько ошалелом состоянии, может даже с легким сотрясением мозга, Райордан поехал к месту свидания. Любовники уже несколько дней назад тайком упаковали свои пожитки, и теперь все, что им было нужно, лежало в багажнике его машины — даже кое-что из его книг, даже парочка ее скульптур поменьше. Он ждал ее в условленном месте — на стоянке за супермаркетом.
Он ждал и ждал. Она опаздывала, но, поскольку это было в ее обыкновении, он не тревожился, хотя голова у него раскалывалась. На стоянку вырулил пикап и припарковался рядом. Из кабины вылез студент и спросил, не он ли профессор Райордан, а когда он кивнул, студент протянул ему письмо, сказал: «Всех благ, профессор» — и укатил. Он разорвал конверт и сразу узнал ее почерк — романтически-небрежные каракули, выведенные на той же благородно-серой веленевой бумаге теми же зелеными чернилами, которые стали для него провозвестием самых дерзновенных жизненных свершений; я не смогу сказать мужу, говорилось в письме. Я не вынесу разлуки с детьми. Я буду любить тебя вечно. Надеюсь, когда-нибудь ты меня простишь.
Райордан рассказывал эту историю со спокойным видом. Только курил сигарету за сигаретой и давил окурки в пепельнице. Он снова женат — не на ком-нибудь из героинь этого его рассказа, а на довольно милой, по-моему, особе, которая сказала, когда нас знакомили, что ей очень нравятся мои книги. Она чем-то смахивает на самого Райордана: такая же стройная, белокурая, со светлой кожей и розовыми ободками у глаз. Опять же, веснушки. Детей у них нет.
С другой стороны, что может быть опасней двадцатилетнего супружества, в котором ей приходит в голову та же самая мысль, что секундой раньше пришла в голову тебе (или придет секундой позже), либо ты рассказываешь ей в один прекрасный день, как непрочно твое «я», как ты постоянно перетекаешь в себя и из себя и забываешь, кто ты есть на самом деле, а она говорит тебе, что и у нее бывает это ощущение исчезновения в себе, — выходит, все эти годы вы оба прожили вместе, не зная наверняка, кто вы такие и какие чувства должны испытывать, тогда как в глазах окружающих оставались все той же давным-давно известной им четой, всегда узнаваемой, и не лучше ли уж получить цветочным горшком по башке?
В пятьдесят лет надо осовремениваться!
Ральф, у которого вышла история с красными трусами, до сих пор не спит со своей женой Рейчел, хотя роман его давно кончен. Психоанализ — он ходит на прием к психоаналитику регулярно пять дней в неделю — показал, что Рейчел как две капли воды похожа на его покойную мать. Мы с ним идем по улице, и он рассказывает мне все это, глядя себе под ноги и заложив руки за спину, ни дать ни взять два добропорядочных, благовоспитанных бюргера степенно совершают Spaziergang[10], а их обгоняют мальчишки с кассетниками и проносятся мимо, раскачиваясь и выдувая пузыри из жевательной резинки, женщины на белых роликах.
— Рейчел не виновата, — говорит Ральф. — Разве могу я сказать ей, своей жене, пережившей ужасы уничтожения евреев фашистами, что она символизирует для меня смерть?
А Саша, суровый Саша, что посоветовал мне либо въезжать, либо уж съезжать, ушел от своей жены Мэри. Это не было для меня такой уж новостью. Прошлой зимой мы с Энджел отдыхали вместе с ними на Барбадосе. Я не в восторге от Карибского моря, но жены вступили в тайный сговор: Мэри мечтала побыть там несколько деньков наедине с Сашей и не надеялась вытащить его без нашей помощи. Мы предались курортному кайфу: читали на пляже, купались, ближе к вечеру играли в теннис, вечером заказывали роскошный ужин в ресторане. Однако прошел день, прошел другой, и Мэри начала нервничать.
— Если мой муж не поторопится заняться со мной любовью, я пойду и утоплюсь в океане, — заявила она моей жене.
И вот в один из ближайших вечеров, когда дамы ушли спать, мы с Сашей задержались, чтобы выпить коньяку в баре гостиницы. Начали мы в тот день около пяти с порции рома, за ужином опорожнили парочку бутылок доброго вина и уже были на взводе.
— Саш, — начал я, — на карибских курортах есть такой неписаный закон: раз ты привез сюда женщину, ее надо ублажать, будь это хоть твоя собственная жена.
Он вскочил на ноги с такой пьяной решимостью, что опрокинул стул.
— Конечно, ты прав, Джонатан, — воскликнул он и, подтянув брюки, нетвердым шагом устремился к двери.
Но по-настоящему скандальная новость — это Брэд. В первый же вечер по возвращении в Нью-Йорк из поездки на Ближний Восток его видели в «Элио» с собственной женой Мойрой. Я чувствую, как почва уходит у меня из-под ног.
Энджел без конца рассуждает на тему о том, что я никогда-то не позволяю себе расслабиться, смягчиться, пойти навстречу, мол, всякий пустяк для меня — дело принципа, всякое несогласие — бескомпромиссный спор, я-де не умею прощать, забывать, уступать в мелочах. Все верно. Зато у нее нет никакой гордости, для нее немыслимо отклонить приглашение, даже в компанию последних ублюдков. Она годами ставит меня в неловкое положение. Я просто не прихожу. Ей, видите ли, страшно отказать в просьбе совершенна случайным знакомым, бог убьет ее на месте, если она скажет «нет». Стоит кому-нибудь внушить ей, что ее считают своей, и она будет карабкаться под палящим солнцем на скалы, дышать пылью рассыпавшегося в прах дерьма броненосцев.
Мой отец, тот регулярно пользовался подземкой. Помню как сейчас, я провожаю его до станции (он уходил на работу часов в десять, одиннадцать утра, садился в поезд Д и ехал в деловую часть города к своим банковским счетам): «Будь поласковей с матерью, старайся уступать ей, не расстраивай ее». Как я любил его. Человека, который разочаровал миллионы. Раздавал обещания и не выполнял их. Ручался и обманывал доверие. Поручил твоим заботам свою разъяренную жену. Мне лет тринадцать. Они жестоко рассорились, и он оставляет меня успокаивать ее. Весь день я со страхом жду наступления ночи. Мать в молчании готовит обед, ставит на стол три тарелки, мы с ней обедаем, отцовский обед стынет на столе, она к нему не притрагивается. Я делаю уроки, ложусь спать. Под утро меня будит новая ссора: где он был, что делал? Брань, обвинения, рукоприкладство. Защищаясь, он делает ей больно, она вскрикивает, и я в пижаме бросаюсь к ним, пытаюсь помирить, ору на них обоих, все это в три часа ночи.
Сколько раз просыпался я от этих ужасных звуков борьбы, ударов, криков. Я не знал, кому верить. Кого любить, кого защищать, на кого нападать. Слыша эти звуки, я ощущал болезненное удовольствие, сам не зная, что такое я ощущаю.
Сейчас моей матери восемьдесят шесть, она согнулась, страдает артритом, рубцы на ее сердце свидетельствуют о трех-четырех инфарктах, которые она перенесла на ногах — даже не чувствовала, когда это случалось, до того была крепка. Она перенесла операцию по поводу рака. Кожа ее вся в старческих крапинах, ходит она с трудом, у нее артериосклероз, диафрагмальная грыжа, глаукома. И камни всюду.
— Я не понимала твоего отца, — говорит она теперь. — Это был удивительный человек и какой ум! Голова у него была устроена совсем иначе, чем у других людей. А я этого не понимала и пыталась сделать его таким, как все.
Моего отца вот уже тридцать лет нет в живых. Протяни он подольше, ему, может, удалось бы дожить до зарождения этой положительной оценки его личности.
— Мне было шестнадцать, когда мы познакомились, — рассказывала мать. — Мы с ним ходили кататься на коньках в Кротона-парк. Он был малый не промах и какой красавец! Не позволял мне появляться в обществе другого мальчика. Весной дарил мне цветы. Мы играли в теннис. Он был превосходный теннисист. Мама не хотела, чтобы я выходила за него замуж.
Вот какой он был человек, мой отец. Находчивый, пробивной. Умел пройти сквозь полицейское оцепление, проникнуть через служебный вход в любой театр на Бродвее, заговорив зубы вахтеру. Достать билеты на концерт в Карнеги-Холл, несмотря на аншлаг. Затеять с нами игру. Он умел из простейших вещей — прогулки в парке, вылазки на природу — сделать праздник. У него роились идеи, он давал нам интересные книги, приносил домой кинокамеры, электропоезда, любил поразить нас неожиданным эффектом. Он провел семейный корабль через рифы Великой депрессии! И все же говорят, что жизнь его не удалась. Об этом неудачнике сложились легенды. Его ошибки в делах и просчеты в оценках продолжают преследовать нас более четверти века после его смерти. Вот почему мой брат так туго расстается с деньгами, вот почему моя мать не может нанять себе прислугу, вот почему я всегда спешу платить по счетам: это мой выкуп — больше того, искупление — за собственный бесстыдный успех.