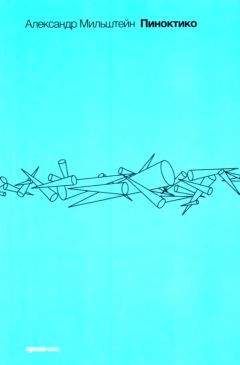Нет-нет, наяву, я это хорошо запомнил…
Стоя в «Макс-форуме», я подумал, что неизвестно, кто подавал… Потому что Ахим зашёл за дом, и я его не видел… Просто оттуда прилетал ангелок… И летел назад…
С другой стороны, если отвлечься от того, что там — в горах — он раскручивал камушки в презервативах… Кажется, что Ахим там играл в ту же игру, а это уже ближе к делу…
Дело же было в том, что Ахим играл в «йо-йо» с Земным Шариком… Я догадался, когда однажды в его присутствии кто-то начал: «Дайте мне точку опоры, и я…» — Ахим громко сказал: «А у меня она есть!»
Он слегка поворачивал этот мир каждый раз… Ровно настолько, чтобы очередной трюк удался…
Не записывайте нас с Ахимом в сумасшедшие, я шучу, конечно… Шучу!
Просто в самом деле казалось… Например, когда Ахим делал эти упражнения — перед полётом или затяжным прыжком… Похожие на что-то восточное, но я знал, что он сам их разработал…
Или, скажем, играл в «йо-йо» с презервативами, в которые вкладывал камешки, прежде чем запустить их в пропасть…
— Странно, что он это делал — бросал со скалы, потому что внизу кто-то мог идти, и потом, ты же знаешь, Ахим был очень чистый человек…
— Поэтому он, уходя, и расчищал площадку, — сказала Штефи. — Потому что любил оставлять после себя чистоту…
— Да нет, я имею в виду, что при детях размахивать такими вещами…
— Он ведь думал, что вы спите.
— Он знал, что я часто лежу с полуприкрытыми веками… Не верится, что это был он, знаешь… И в то же время я так чётко вспомнил…
— Так кто же там мог быть, если не он?
— Не знаю я… Пращур с пращой?
— Погоди, это ведь тебе не приснилось? И ягод ты в тот раз не объелся?
— Нет… Но мог ведь кто-то случайно идти там, внизу… И получить камнем по голове…
— Камешки были крохотными, — сказала Штефи так, как будто она сама там была…
— Но с такой высоты…
Мы сидели с ней в кафе, кажется, в «Танкштелле», где есть ещё и маленький театр, в котором я никогда не был, и в тот вечер мы тоже просто сидели в кафе при каком-то театре, Штефи потягивала коричневую жидкость «куба-либре» через соломинку, а я рассказывал, как накануне видел «уртюпа», как он чуть не пролез в мою голову…
Но Уртюпа Штефи проигнорировала, он был ей неинтересен…
— Послушай, Йенс, — сказала она, — ты мне не нравишься. Ахим — если бы знал — ни за что не стал тебе рассказывать эту историю, неважно, правдивая она или нет.
— Но ведь он рассказал.
— Он просто думал, что ты уже взрослый мальчик. А ты играешь в какие-то дурацкие игры с собственной памятью… Что ты хочешь там откопать? Трою?
— Ты права, — сказал я, — я больше не буду. Но скажи — последний раз, — объясни мне: зачем он это сказал? Неважно, правда это или нет, но — зачем?!
— Может быть, он… поставил на тебе эксперимент.
— Что-что?
— Не знаю, я недавно так подумала, когда прочла интервью с Ларсом фон Триром…
— Где он говорит, что в нём сидит зверь?
— А что, он разве так говорит?
— Он говорит, что в каждом человеке сидит зверь, но я, прочитав, подумал, что не знаю, как в каждом, но в Трире так точно: Тир в Трире[16]…
— Нет, я, наверное, читала другое интервью, где Ларс говорит, что перед смертью мать призналась ему, что фон Трир — не его отец. Что она на самом деле родила его от композитора Хартмана — в порядке эксперимента…
— Так в чём эксперимент-то состоит?
— В том, чтобы специально зачать гениального ребёнка!
— Смешно.
— А дальше ещё смешнее. Трир ведь всю жизнь думал, что он еврей, ну наполовину, неважно, а тут вдруг, узнав, что его отец — датчанин, заявил: «Я — наци».
— Правда?
— Ну не совсем. Он же левый. Но в каждой шутке…
— В общем, наполовину… Ну да, если учесть, какие шутки любит Трир… «Догвилль», к примеру…
— Нет, Йенс, мы уже об этом говорили, и я не хочу возвращаться к этой теме. Надоело.
— Но согласись…
— Не соглашусь. Можно и так посмотреть и этак, и я вообще сейчас не о том. Просто, это предсмертное признание матери Трира не могло мне не напомнить о признании Ахима, это же понятно…
— То есть ты хочешь сказать, что я могу быть евреем?
— Нет, я это не имела в виду, — улыбнулась Штефи, — хотя почему бы и нет? Ты что-то имел бы против?
— Знаешь, меня никогда нельзя было упрекнуть… К примеру, на вопрос анкеты, которую мы заполняли в универе, «не против ли вы, чтобы ваш сосед был евреем?» я ответил «не против». Но на этом мои чувства к ним заканчиваются. Сам я быть евреем не хочу. Имею право?
Штефи рассмеялась:
— Но почему у тебя сразу испортилось настроение?
— Не из-за евреев, во всяком случае. Я не хочу ими, или одним из них, быть просто потому, что для меня это слишком сложно. Может быть, это и не страшно, и вообще никак, но столько вокруг этого мифов, что… Не хочу. А настроение испортилось просто потому, что я подумал: ведь я могу быть кем угодно — и даже не наполовину… Евреем, русским, поляком… Или вообще-е-е-е…
— Ну кем?
— Австрийцем!
После этого мы наконец перестали говорить на серьёзные темы, мы расплатились и поехали к ней или ко мне, я уже не помню…
Ничего не предвещало, что через день мы расстанемся, хотя, как я теперь понимаю, это было её прощанием — неожиданная волна нежности, которая захлестнула меня в тот вечер с головой…
Штефи умеет всё, в том числе и прощаться.
Есть люди, которые, расставаясь, сразу же находят себе очередную пару. Мне всегда казалось, что они похожи на летающих собак… Или белок-летяг — вроде они и летят, но на самом деле, если присмотреться, — только от одного дерева к другому… То есть любовники, да и вообще люди, для них — деревья, по-настоящему же летать — подолгу — они не умеют…
А мне захотелось по-настоящему, что-то я видел там — у Кастанеды, томики которого перелистывал в эти дни: пять правил для одинокой птицы… Впрочем, там это было цитатой, из Санта-Круса, кажется…
Почему Ахим не научил меня? Прежде всего, потому что я этого не хотел. Я даже не хотел ходить с ним в горы…
А теперь не то что жалею… Просто было бы больше воспоминаний. Горы — хороший фон для воспоминаний, я так отчётливо помню всё, что там было… Но, может, потому и помню, что редко бывал…
Помню, как Ахим один раз свернул со мной с туристской тропы туда, где стояла табличка: «Только если есть опыт скалолазания и не бывает головокружений».
Какое-то время всё было по-прежнему, такая же точно тропа, я удивлялся: зачем поставили щит с этой надписью — только чтоб пугать людей?
И вдруг тропинка оборвалась. То есть её — мысленное — продолжение было — в пропасть — прямиком.
Отец указал мне на железный трос, который был протянут по отвесной стенке. Я глянул вниз и сказал:
— Пап, ты с ума сошёл, я здесь никогда не пройду. Я полечу вон туда…
— Не смеши меня, Йенс. Это проще простого. Держись крепче за трос и ставь ногу туда, куда я ставлю. Только не наступай мне на пятки, малыш, а жди, когда я уберу ногу… Тогда только ставь свою туда же… Ты меня понял?
Я сказал: «Да». А что мне было делать? Идти назад? Так ведь, оглянувшись, я понял, что там теперь всё изменилось. Не было больше той тропки, по которой мог пройти любой идиот… Она, наверное, была только в моём воображении… А теперь растворилась — в сыпчаке, в картине другого мира… Мир, подумал я тогда, — это просто калейдоскоп, камешки складываются то так, то этак… То есть на самом деле нет никакого мира… И, выбирая между отвесной стеной — но с протянутым тросом и указующей стопой отца… И не такой отвесной, но тоже крутой и коварной… Я решил идти вслед за Ахимом.
Не сразу решил, несколько минут ему понадобилось, чтобы Меня убедить. Он не говорил «не хочешь — иди назад», или «сейчас же иди за мной», нет, он так ласково меня уговаривал, как никогда…
Но от его неожиданно ласковых интонаций мне стало ещё страшнее: куда он меня манит, а? — думал я… Отец-то он отец, но — со сдвинутой резьбой… Не на заклание ли?
Я навсегда запомнил этот момент — как я сказал себе: «Будь что будет» — и шагнул вслед за Ахимом…
Больше я в горы с ним никогда не ходил. Он, может быть, кого-то чему-то и научил, во всяком случае, я знал людей, которые называли его учителем… Но, по мне, он был плохой педагог…
Когда мы преодолели отвесную стенку, Ахим имел наглость сказать мне: «Зато теперь тебе будет что вспомнить».
А я в ответ прокричал: «Надо, чтобы ещё было кому!»
И вот теперь есть вроде бы что, но кому? Как бы это сказать… Последнее время — после того, как не стало Ахима и ушла Штефи, — я стал сомневаться… Казалось бы, наоборот: на фоне чьего-то отсутствия чётче должна обозначиться твоя экзистенция…
Но всё получилось наоборот. Моя всегдашняя неуверенность в себе стала зашкаливать за какую-то красную отметку… Из-за этого я и стал писать… Причина та же самая, что и надписей-царапин на стенах, деревьях или скалах… «Я был!» — вчера видел на деревянном столе в биргартене, наверное, когтем… Потом я пошёл отлить и в туалете над писсуаром, возле которого я как раз встал, увидел ещё одну надпись, причём в рамочке: «С 1973 года наш любимый обербургомистр всегда писает в этом самом месте!»